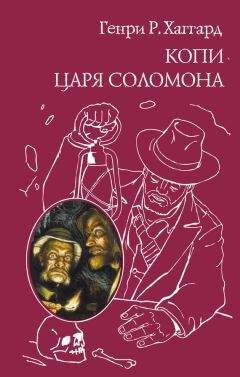— Между прочим, я не ужинала, — сказала она.
Упрек был справедлив.
Потом, уже уложив ее спать, я вышла посидеть на приступочках террасы. Она была от меня рукой подать — кровать Молотова. Она вернулась на спецучасток, где когда-то жил ее главный хозяин. Строгий был мужчина. Аскет. Между прочим, я в это верю. В его аскетизм. Он еще долго жил и видел, что ему на смену приходят охальники-развратники. И он платил взносы партии, как судьбе, чтоб вернуть аскетов.
На мое время выпало существование двух типов власти: аскетов-убийц и голых развратников в банях. И еще воров. В детской считалке выбор был больше ленты, кружево, ботинки, что угодно для души. Развратники и воры кружевом и ботинками обеспечили. Теперь учатся убивать. Вот душа ноет и плачет, она боится поворота, когда придут аскеты-убийцы на взносы, выплаченные впрок. Или все-таки не придут? Тоже русский вопрос: кто лучше — вор или убийца?
Я задремываю и вижу сон-явь: дети несут маленький гробик, но в гробике не младенец. Молотов в пенсне, которое отсвечивает на солнце. Левым глазом он мне подмигивает. Я вскакиваю и бегу в дачу, и закрываю все засовы. Сопит внучка, храпит собачка по кличке Кутя. Светится огонек невыключенного телевизора.
«Господи! — говорю я телевизору. — Спаси нас и сохрани. Не возвращай аскетов. Пусть у детей будут ленты, кружево и ботинки. И что угодно для души. И раз уж кровать нашли, то, значит, — как я понимаю — надо на ней зачинать ребенка. Только перевернуть кровать и поставить на ноги. И ляжет на нее кто-кто? — Машка. Больше некому. Каков стол, таков стул, как говорит всю жизнь мой приятель. Но простую бабью работу, Господи, она сделает. Ты не отвернись сделай главную. Пусть у нее родится умный царевич, который найдет себе жену-красавицу, а не жабу. И чтоб пошло у них все умненько и ладненько, а за ними и у нас. На третий раз, Господи, должно получиться что-то путное.»
Мы ведь по жизни трехразовый народ: три раза закидываем невод…
7 ноября
«Рассказать бы кому…» — думала она.
В тот вечер в метро продавали запаянные в целлофан орхидеи. Белые с красноватым узором лепестки страстно, распахнуто стояли на узком черном стебле. Продавщица из новообращенных инженерок сразу стала их навязывать. Пришлось уйти, уйти противно-торопливо. Так уходишь от стыда. Дурного запаха. Хамства. Хотя какое хамство? Сплошная доброжелательность. Обнять бы инженерку-оборонщицу, что училась на отлично сбивать американские ракеты, и прошептать ей в ухо: «Извините, у меня на орхидеи нет денег…» Но дело это рисковое. Оборонщица могла бы закричать в ответ, что да, понимает, что было время, когда она сама каждый год ездила в санаторий ЦК им. Фабрициуса, а теперь вот — на! Торгует цветами. «Это, по-вашему, что?»
Поэтому она и уходит быстро-быстро…
В метро сквозило, и хотелось быстрей оказаться дома. Между прочим, Вадим был оборонщик. И оба-два ее мужа. Они ушли от нее навсегда. Сегодня девять дней Вадиму. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зверек» попищит, а она поплачет. «Ах, — думает она, — рассказать бы кому…»
Она ищет глазами лицо в толпе, которая станет потом «лицом томагочи». Но сегодня день цветов. Много их — чересчур! Больше всего гвоздик. Боже! Она совсем забыла. Сегодня же праздник. Зря из-за него тянут на гвоздики. Красивый, ни в чем не повинный цветок. Она чувствует сейчас любовь к гвоздикам. «За общность судьбы», — смеется. Надо бы купить гвоздичку и ее сделать «лицом томагочи», когда они будут поминать Вадима.
Но смешно сказать. У нее в кармане только проездной. Последние деньги она истратила на лосьон «Деним» для юного мальчика, милиционера, который спас ее от самой себя и вернул ей слезы.
Кому бы рассказать…
Она не была актрисой милостью Божьей.
Ах, эта милость Божья! Вправе ли мы роптать на ее недовес? Но когда прожито больше, чем осталось, такие вещи про себя уже пора бывает знать. Хотя она это знала давно. «Милость Божья, — думала она, — дар. А мне просто отмерено». Как щепоть для посола. Она у нее точнехонькая. «Вот этого у меня не отнять!» — смеется ее встрепанный ум. Обычно она в ладу с ним, но временами!.. Как же он подвел ее за последнее время, как подвел! Дурак ты, мой ум!
Рассказать бы кому…
17 октября
В тот день она ехала после пробы в шальной антрепризе — в одной такой она уже репетировала, где у нее была третья по значимости роль. Главную должна была играть ее землячка. Они из одного южного городка, более того — они из одной школы. Уже много лет они делают вид, что не знали друг друга раньше. Вот и на показе их «познакомили». «Ах» — «ах»! Читали маленькую сценку. Она, как всегда у нее, сразу с полной выкладкой, а землячка путалась в словах, соплях и ударениях, а потом вообще загундосила, пришлось ей капать в нос, убирать со стола скатерть из синтетического плюша как возможного аллергена, искать супрастин.
Актриса милостью Божьей, — а такой была землячка — может такое себе позволить. У милостью Божьих иначе кровь брызжет, иначе кудри вьются.
В конце концов читку отменили. Она тогда ехала домой с чувством глубокого удовлетворения. Землячка была противная, а у нее есть работа. Это главное. А раз есть главное, можно позволить себе скулеж. Это ее свойство. Она ропщет именно в момент глубокого удовлетворения. Так она ворожит, так боится спугнуть удачу.
Мемория
К пятидесяти она уже чуть ближе, чем к сорока, и умри она завтра — ни у кого от горя не оборвется сердце. (У нее — увы! — к тому же не льстивый к себе ум.) Даже ее редкое имя Нора Лаубе забудется в миг по причине нерусскости его природы. Ее никогда не считали еврейкой только потому, что славянская кладка не оставляла никаких надежд антисемитам. Даже те, кто искал в ней немку или прибалтийку, понимали, что такой высокий лоб и слегка «утопленные» серые глаза бывают только у среднерусского разлива. Проклятая и неизбежная националистическая чепуха! Нора родом «из югов», где крови намешано не сказать сколько, а фамилия Лаубе досталась ей от мужа, с которым она прожила два молодых своих года. Он был русский, русский, русский.
Этот Лаубе-муж очень искал хоть в четвертом от себя колене что-нибудь годящееся для эмиграции. Искал, но так и не нашел, женился после Норы на какой-то приблудной американке, нескладной, глупой, но какое это имело значение? Взнуздал широкую спину большестопой барышни из Айдахо и прыгнул. А Нора осталась носить эту фамилию, которая вызывала нездоровые вопросы у траченного комплексом неполноценности населения. Имя же ей дала театралка мама в честь ибсеновской Норы. Потрясший маму спектакль Нора видела уже в свои пятнадцать лет. Его возобновили. Нору играла все та же актриса. Ей, видимо, было столько, сколько Норе сейчас.
Было ощущение болезненного дискомфорта — так идешь по длинному переходу, в котором побили лампочки. Одним словом, чувства на спектакле «ее имени» были физиологические, и хотя она была еще девочка, она понимала, что так не должно быть… Тем не менее она заболела театром — оказывается, бывает и так, — ища ответы на вопросы, от которых во рту был железистый вкус, а на зубах трещало, как от песка. Ну что ж… Судьба приходит по-разному. К ней она пришла выспренним именем, чужой фамилией и притягательной силой пусть плохого, но театра. Она поступила в институт с первого захода и училась на повышенную стипендию. О том, что у нее не сложилась судьба, знает только она сама. Для многих, очень многих она везунчик. Всегда при ролях. Всегда нужна. Никому нет дела до милости Божьей, кто ее вообще придумал? «У Лаубе все схвачено». Вот как говорят про нее. И ее ум не спорит. Она знает, что нельзя оспоривать глупца… Из мудростей — мудрость. Эта Нора Лаубе много чего знает. Она хитрая. Она мудрая. Можно и одним словом.
17 октября
Возле подъезда клубился народ. Сейчас ее зацепят глазом и будут долго держать, чтоб потом сожрать с потрохами, как доставшуюся добычу. О этот люд подъезда! В городе ее детства Ростове подъезд называли «клеткой». «Вы в какой клетке живете?» Это было так точно. Люди — клетки. С соответствующими законами жанра клетки. Она подошла совсем близко и вдруг поняла, что странным образом сейчас, сегодня не представляет интереса для «клетки». Что может пройти незамеченной мимо толпы, потому что у той другое направление интереса. Норе так хотелось домой, к джину с тоником, что она почти минула их всех, но что-то ярко полосатое, почему-то известное ей, остановило ее взгляд. На земле лицом вниз, сжимая в руках махровое полотенце, лежал человек и весь дрожал, как будто бы человек рыдал в это самое полотенце. Был хорошо виден странно заросший затылок с неправильным направлением волос.
— Что с ним? — спосила Нора.
Даже для ответа люди не повернулись к ней — так притягательна была эта чужая дрожь.