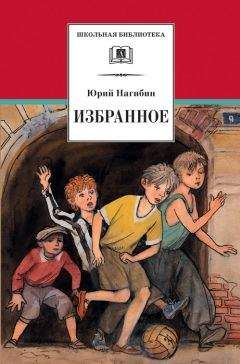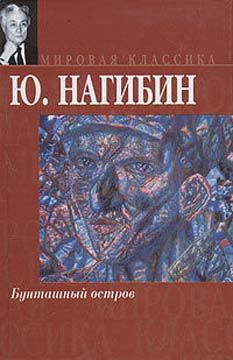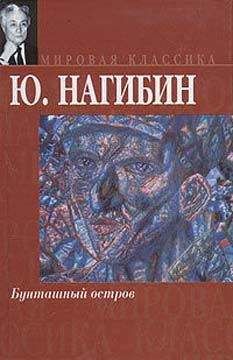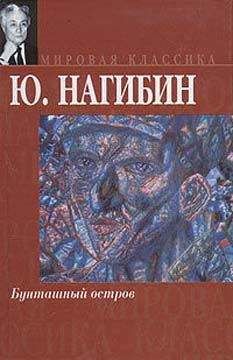Таким я Пашку не видел. Он всегда был прямым и откровенным человеком. Он, конечно, знал, что будет, но не хотел этого знать и уж вовсе не хотел об этом говорить. У Пашки был огромный моральный авторитет, но он не чувствовал себя вправе давить на людей и все пустил на самотек.
Крепости сдают не только из-за предательства. Когда Михаил Михайлович ушел, крепость устояла, хотя трещина пошла по ее телу. Но было ясно, что нам не выдержать зимней осады. Уверен: многие согласились бы и на безнадежный риск, но мы отвечали за беспомощных, а они уже начали нести потери: умер Егор Матвеевич, тронулся Аркадий Петрович. А тут еще омерзительное происшествие: ночью крысы объели ухо Сергею Никитовичу. Он, бедняга, оглушенный снотворным, ничего не почувствовал, а утром проснулся - пол-уха нет.
Крысы тут всегда водились, но не в таком количестве. Днем они не появляются в палатах, хотя вовсю шуруют на кухне, в сенях и коридорах, а вечером выходят из подпола, не дожидаясь, когда погаснет свет, и носятся между койками.
Кто-то подал мысль: эвакуировать "самоваров", но они подняли страшный крик. Боже мой, что там творилось!.. Ярость, гнев, отчаяние, слезы людей, которые не способны к действенному протесту, бессильны против любого принуждения, невозможно описать. Сергей Никитович с забинтованной головой пригрозил: "Расколоть башку о стену мы всегда сумеем, и вы будете убийцами". Их категорическое требование: или все остаются, или все вместе уходят. Вот и решилось само собой, как говорил Пашка. Разве можно было предать своих товарищей, с которыми прошла жизнь?..
И начались сборы. В последнюю минуту Пашка объявил, что остается. На него накинулись: "Да кто тебе позволит?", "Очумел?", "Ты же загнешься тут!". Пашка выслушал холодно. "Не бойтесь, не загнусь и весной пойду на пристань". Его оставили в покое.
Я решил остаться с Пашкой и, пока шло это объяснение, спрятался в захламленном чуланчике, который еще раньше присмотрел для своих записей. Я был уверен: когда меня хватятся, этот тайник не найдут. Странно, но создалось впечатление, будто никто не хватился. Конечно, в суматохе могли и не заметить, хотя я не совсем рядовая фигура в нашем, увы, капитулировавшем гарнизоне. Впрочем, кто знает, может, меня искали, да уже поздно было. Белоглазые небось помешались от счастья, что могут отмылить. Наверное, и Пашка на это рассчитывал: не станут они снова накалять атмосферу и требовать его отъезда.
Я вылез из своего укрытия, когда наши все до одного покинули убежище. Шествие уже проделало полпути до административного корпуса. Зрелище, надо сказать, было не для слабонервных. "Самоваров" привязали за спиной, а поскольку все ослабели от недоедания и неподвижной жизни, то едва двигались на своих тележках. Но когда белоглазые хотели помочь, заорали, обложили их матом и погнали прочь.
Пошел мокрый снег большими, слипшимися, быстро стаивающими хлопьями. Ветер наклонил снег, понес его параллельно земле прямо в лица ползущим по закисшей дороге. Наклонив головы, плечами и грудью налегая на ветер, наши тащились сквозь снегопад. Я заметил, что плачу, потому что размылось в глазах. Я вытер глаза и приказал себе не реветь. То, что я видел из маленького грязного оконца, не было ни жалким, ни ущербным. И это не было поражением. Мы держались столько месяцев не против белоглазых оглоедов, а против всего тупого и непреклонного государства. Чем мы хуже соловецких иноков? У нашей рати ни одной пары ног и дай Бог по руке на воина. Гарнизон ушел, но крепость не сдалась. Враг не вошел сюда. Наш командир остался. И при нем гарнизон из одного человека. Я его гарнизон, мы продолжаем сопротивление.
Шествие, отдалившись, стало за пеленой снега темной извивающейся гусеницей. Вот она достигла крыльца административного корпуса, и он вобрал ее в себя. Отъезда мы не увидим, корпус имеет выход за монастырскую стену. Остался лишь косо валящий снег, в него провалилось тридцать лет жизни.
Я вернулся в дом. Пашка не удивился моему появлению. И не обрадовался. Голос его прозвучал весьма сухо:
- Зря ты остался. Погано будет.
- .Как будет, так и будет.
- Какой у тебя тут интерес?
- Привычка. Мне к новому месту не привыкнуть.
- Возись с тобой!..
- Я сам себя обслужу,- сказал я храбро.- Одна просьба: зови меня по имени, хватит этих церемоний. Я же на пять лет тебя моложе.
Он усмехнулся:
- Ладно, Коля... Жизнь продолжается. Будем жить...
...Неделю не притрагивался к дневнику. Дел было выше головы. Ребята такой срач оставили, что разгребай да разгребай. И главное, чтоб никаких пищевых отходов: корок, крошек,- крыс развелось видимо-невидимо. Мы занялись уборкой всерьез. Это была работка! Сколько "добра" вынесли, сожгли, зарыли! Даже представить себе трудно, как можно скопить такое количество всевозможного мусора: бумага - откуда только она взялась? - какие-то коробочки, флакончики, корешки, сушеные цветы и травы, огрызки зверьевых шкурок, птичьи лапы и крылья, сосновые и еловые шишки, гвозди, гайки, разноцветные стекляшки, бусины, гребешки без зубьев, ржавые лезвия безопасной бритвы, пипетки, железяки неизвестного назначения, камешки, кусочки материи, ленточки - все годилось в большом хозяйстве наших собирателей. В сущности говоря, в этом нет ничего смешного и странного: да, это был их вещный мир, ничуть не менее ценный, чем домашняя антикварная лавка какого-нибудь видного коллекционера. И наверное, им было грустно, что они не могут забрать с собой свои сокровища.
Пашка вымыл полы. Закутавшись в одеяла, мы хорошо проветрили наше затхлое помещение, но запаха курной избы так просто не выведешь. Мы накопали глины, замесили ее битым стеклом и замазали дыры в полу. Потом согрели воду, вымылись и переоделись в чистое. После чего сели обедать.
...Казалось бы, надо чувствовать наставшую пустоту и тишину. Сколько тут было народу, сколько шума, суеты, всяких происшествий, споров, обсуждений! Разговаривали, пели, шутили, ссорились, плакали, орали, тосковали, любили, ненавидели, сходили с ума,- когда я вспоминаю недавнее прошлое, то не перестаю удивляться, какими мы были шумными, активными, несмотря на увечья, душевно заряженными людьми. А теперь лишь слабый шорох наших с Пашкой движений наполняет дом в утренние и дневные часы (вечер озвучивается крысиным топотом - наша замазка не сработала), а дом не кажется мне пустым, он заполнен Пашкой.
Среди нас были значительные личности, сильные люди с интересной, хотя и рано оборванной биографией, но Пашка выделялся из всех. Я думаю, он в любой компании, в любом обществе был бы заметен, в нем все крупно, ярко, мускульно, если так можно выразиться, недаром его любила прекрасная женщина и даже погибла из-за него. Впрочем, я уже писал, что Пашка в ее гибель не верит. Наши ее видели, говорят, королева. Я очень жалею, что не был тогда на пристани, мне и вообще-то лишь два раза удалось туда добраться. Но Пашка говорит, что отвезет меня к первому же пароходу, который приходит на майские праздники.
Я знаю другую женщину - прачку Дашку, она тоже на Пашке чокнутая. Если б не дочь, она никогда бы отсюда не уехала, но как бы она ни любила, материнское всегда возьмет верх. Я так об этом пишу, будто чего понимаю, а ведь у меня не было любви, не было женщины. Мне с отрочества втемяшили, что пора мужской зрелости - двадцать один год, а до этого - полное воздержание. Мои родители были хорошие люди: честные, щепетильные, предельно деликатные, напичканные старинными добродетелями, типичные дореволюционные интеллигенты. Всей душой преданные четвертому сословию, с мечтой о светлом будущем, свято верящие в социализм и потому оправдывающие все действия властей - находка для диктатуры. Они не взяли от времени лишь то немногое, что следовало взять, ну, хотя бы чуть большую моральную свободу, чем во времена их стерильной молодости, отсюда и предписанное мне целомудрие, будь оно проклято! Ни один из моих друзей не пошел на фронт, не попробовав бабу, кто-то по любви, большинство - с кем попало. Я один, законченный идиот, подарил свою девственность дорогой Родине вместе о конечностями. Очень долго меня это не мучило, я не испытывал и тени влечения к женщине. Но к старости во мне что-то проснулось. Меня стали волновать даже старухи, которые приходили убирать за "самоварами". Я не люблю похабных разговоров - опять же утонченное воспитание! - но как-то слышал: некоторые "самовары" устраивались с этими старухами, кто за подарки, которые нам иногда присылали, а кто вполне бескорыстно - по взаимному согласию, ведь эти женщины военной молодости, такие же обойденные, как и мы.