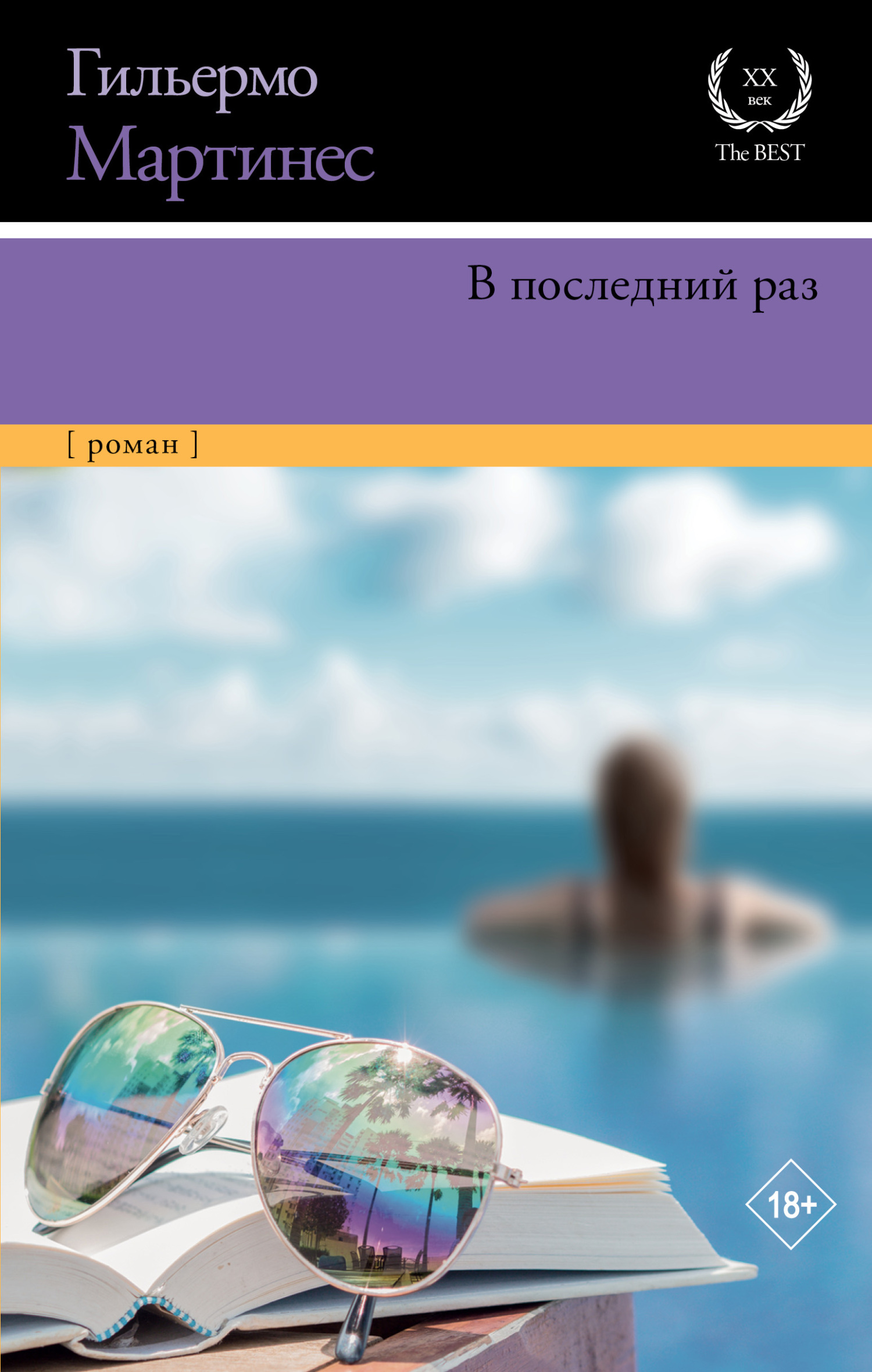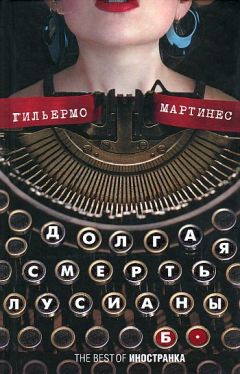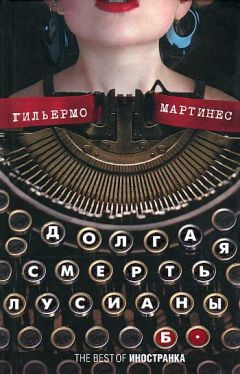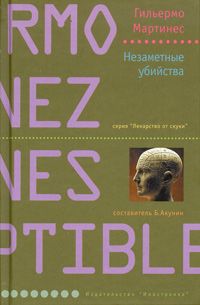случилось, когда он был с женой? Профессор покачал головой и ответил, что с самого начала болезни предпочел освободить жену от супружеских обязанностей. Сказанное, он знал, было равносильно второму признанию. Лила сразу догадалась, бросила вопросительный взгляд на дверь, за которую удалилась Хельга, и профессор кивнул. Тогда на ее лице появилось весьма необычное выражение, то ли просветленное, то ли снисходительное. Профессор определил его не иначе, как женское превосходство. А потом, будто принимая почти профессиональный вызов, поинтересовалась ровным тоном медицинского работника, не может ли она «сама посмотреть». Профессор выложил свой случай, и когда она, склонившись, чтобы рассмотреть его, спросила, нельзя ли потрогать, он полностью предал себя в ее руки. На самом деле, сначала только в одну. Лила взяла его, положила в ладонь, поднесла к лицу, чтобы взглянуть поближе, и заявила, что орган вполне здоров. Словно желая перехватить поудобнее, она слегка, как бы по рассеянности, погладила его снизу, и оба воззрились на то, как он стал разворачиваться, медленно, однако не оставляя сомнений, на ее ладони, прирастая, вползая, покачиваясь еле заметно, но решительно, пока не занял ладонь целиком. Профессор едва не пустился в извинения, но оба слишком пристально следили за происходившей метаморфозой. Губы Лилы изогнулись в высокомерной полуулыбке, она взялась за него более решительно и прощупала весь, измеряя этот новый объем. И тогда, будто одно движение повлекло за собой другое, в тайной заразе или в последовательности импульсов, положила сверху другую руку и принялась сосредоточенно тереть, уже не глядя, серьезная и отрешенная, словно меряясь силой с этой твердой, несгибаемой материей, намереваясь закончить опыт. Профессор взирал на ее старания с изумленной благодарностью, чувствуя, как упругий, жаркий поток вновь струится по телу, и жизнь возвращается, как чистый восторг, но и оборот, какой принимали события, приводил его в недоумение. То, что Хельга возвела в ранг вечно ускользающего блага и заставляла его возрастать безо всякой меры с каждым отказом, для этой девушки было маленькой милостью, какую она оказала из сочувствия на четвертый день, услугой, за которую не ждала воздаяния, самой настоящей
bagatelle [10]. Или снова сработала втайне эта вторая диалектика между двумя женщинами: молодость против зрелости, новенькая против обосновавшейся, а главное – жгучее желание попробовать себя там, где «другая» не преуспела?
Мертон прервал чтение, поскольку заметил в окно, как подходит Мави со сложенным вдвое листком бумаги в руке. Она шла босиком, в длинной рубашке, не позволявшей видеть, что надето под ней. Похоже, только что приняла душ, кончики волос еще были влажные.
– Нашелся список, – объявила она, когда Мертон открыл дверь. – Пришлось спросить у отца, к счастью, он вспомнил, куда мы его засунули.
Мертон предположил, что Мави снова едва заметно подкрасила глаза, а может, так казалось по контрасту с румянцем, появившимся на лице после утра, проведенного на солнце. В любом случае, ему, как и за ужином, было трудно выносить их двусмысленный, ослепительный блеск. Или это он сегодня смотрит на нее по-другому? Если бы не было капельки солнца в глазах, я никогда бы на солнце не поднял взгляда. Мертон взял список, который Мави протянула ему, и увидел, что там не один листок, а несколько, скрепленных степлером.
– Ну что, впустишь меня? Обещаю сидеть тихо, не мешать, только книгу полистаю.
Распахнув дверь, Мертон смотрел, как она уселась поперек кресла и подняла «Камасутру», несколько нарочито, будто показывая, что сдержит обещание. Он вернулся к письменному столу со списком в руке. Мертон не мог видеть Мави, поскольку сидел к ней спиной, но ее распростертое тело частично отражалось в оконном стекле, и в тишине кабинета было слышно ее мерное дыхание и мягкий шелест бумаги, когда она переворачивала страницу. Список был отпечатан старым шрифтом, на пишущей машинке, краска кое-где легла неровно. Каждый листок содержал последовательность заглавий, по одному на строке, и сбоку имя автора. Посмотрев, Мертон заметил, что там больше всего романов, некоторые – настоящая классика, другие он знал по ссылкам, но так и не прочитал, а о каких-то даже и не слышал. В этот ряд вклинивались книги по философии или философские романы. Мелькнули имена Башляра и Чорана, «Падение» Камю и «Дневник соблазнителя» Кьеркегора. Его заинтриговало то, что страницы были заполнены неодинаково. На первых список доходил до самого нижнего края, на других занимал чуть более половины листа. На последних – двенадцать-пятнадцать строк. На самом последнем значились заглавия всех романов А., в хронологическом порядке. Мертон размышлял, что же это за список такой. Если бы он включал в себя любимые книги А. или те, которые он перечислял по какой-то причине, может, сделав из них выписки, перед тем как отдать в библиотеку, было бы естественно, казалось Мертону, заполнить каждую страницу до конца.
Он обернулся, спросил у Мави, не помнит ли она, почему на некоторых страницах заглавия теснятся до самого конца, а на других, наоборот, их очень мало. Но Мави медленно покачала головой, в полном недоумении. Ей тогда было всего десять лет, она помнит только, что клавиши были очень тугие, и отец время от времени останавливал ее, вынимал лист из каретки и ставил следующий. Мертон отложил список, решив изучить его позднее более внимательно. На самом деле, повернувшись к Мави, он увидел нечто, его взволновавшее. Мертон с трудом заставил себя смотреть ей в лицо, поскольку она закинула ноги на подлокотник, и стало ясно, без малейших сомнений, что под рубашкой у нее ничего нет. Увиденное, как внезапный ожог, заставило его отвести взгляд так резко, что она, конечно, заметила это. В нескончаемые минуты, все более мучительные, Мертон поймал себя на том, что ловит в оконном стекле ее малейшее движение, изменение позы и уже не в состоянии сосредоточиться, чтобы вернуться к рукописи.
Мави произнесла, своим прежним полунасмешливым тоном:
– Хватит притворяться, будто читаешь, ты ни одной страницы не перевернул. Иди сюда, трудно листать такую книгу в одиночку.
Тем же вечером, убедив Мави, что она должна вернуться до приезда матери, когда бассейн уже вбирал в себя последний отблеск света, Мертон снова сидел перед рукописью, слишком, правда, ошеломленный, чтобы пытаться читать, продолжить какое-либо движение, возвращающее к себе, древним ураганом влекомый, и вдруг увидел, как фигура Донки появилась в двери, ведущей на галерею. Отчаянно жестикулируя издали, она бежала по лужайке к кабинету.
Мертон открыл дверь, предчувствуя нечто роковое: неспроста Донка пустилась в такой гротескный бег. Образ этой женщины, закрепленный в его сознании, ее торжественная, невозмутимая стать – все разматывалось, развеивалось