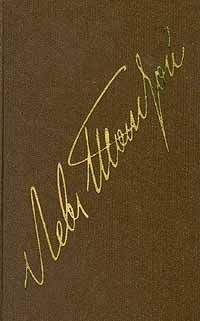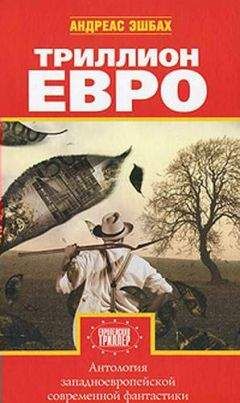Вопросы: зачем? и за что? — возникающие в душе человека при испытывании или воображении страдания, показывают только то, что человек не познал той деятельности, которая должна быть вызвана в нем страданием и которая освобождает страдание от его мучительности. И действительно, для человека, признающего свою жизнь в животном существовании, не может быть этой, освобождающей страдание деятельности, и тем меньше, чем уже он понимает свою жизнь.
Когда человек, признающий жизнью личное существование, находит причины своего личного страдания в своем личном заблуждении, — понимает, что он заболел оттого, что съел вредное, или что его прибили оттого, что он сам пошел драться, или что он голоден и гол оттого, что он не хотел работать, — он узнает, что страдает за то, что сделал то, что не должно, и за тем, чтобы вперед не делать этого и, направляя свою деятельность на уничтожение заблуждения, не возмущается против страдания и легко и часто радостно несет его. Но когда такого человека постигает страдание, выходящее за пределы видимой ему связи страдания и заблуждения, — как, когда он страдает от причин, бывших всегда вне его личной деятельности или когда последствия его страданий не могут быть ни на что нужны ни его, ни чьей другой личности, — ему кажется, что его постигает то, чего не должно быть, и он спрашивает себя: зачем? за что? и, не находя предмета, на который бы он мог направить свою деятельность, возмущается против страдания, и страдание его делается ужасным мучением. Большинство же страданий человека всегда именно такие, причины или следствия которых — иногда же и то, и другое — скрываются от него в пространстве и времени: болезни наследственные, несчастные случайности, неурожаи, крушения, пожары, землетрясения и т. п., кончающиеся смертью.
Объяснения о том, что это нужно для того, чтобы преподать урок будущим людям, как не надо предаваться тем страстям, которые отражаются болезнями на потомстве, или о том, что надо лучше устроить поезда или осторожнее обращаться с огнем, — все эти объяснения не дают мне никакого ответа. Я не могу признать значения своей жизни в иллюстрации недосмотров других людей; жизнь моя есть моя жизнь, с моим стремлением к благу, а не иллюстрация для других жизней. И объяснения эти годятся только для разговоров и не облегчают того ужаса перед бессмысленностью угрожающих мне страданий, которые исключают возможность жизни.
Но если бы даже и можно было понять кое-как то, что, своими заблуждениями заставляя страдать других людей, я своими страданиями несу заблуждения других; если можно понять, тоже очень отдаленно, то, что всякое страдание есть указание на заблуждение, которое должно быть исправлено людьми в этой жизни, остается огромный ряд страданий, уже ничем не объяснимых. Человека в лесу одного разрывают волки, человек потонул, замерз или сгорел или просто одиноко болел и умер, и никто, никогда не узнает о том, как он страдал, и тысячи подобных случаев. Кому это принесет какую бы то нибыло пользу?
Для человека, понимающего свою жизнь как животное существование, нет и не может быть никакого объяснения, потому что для такого человека связь между страданием и заблуждением только в видимых ему явлениях, а связь эта в предсмертных страданиях уже совершенно теряется от его умственного взора.
Для человека два выбора: или, не признавая связи между испытываемыми страданиями и своей жизнью, продолжать нести большинство своих страданий, как мучения, не имеющие никакого смысла, или признать то, что мои заблуждения и поступки, совершенные вследствие их, — мои грехи, какие бы они ни были, — причиною моих страданий, какие бы они ни были, и что мои страдания суть избавление и искупление от грехов моих и других людей каких бы то ни было.
Возможны только эти два отношения к страданию: одно то, что страдание есть то, чего не должно быть, потому что я не вижу его внешнего значения, и другое то, что оно то самое, что должно быть, потому что я знаю его внутреннее значение для моей истинной жизни. Первое вытекает из признания благом блага моей отдельной личной жизни. Другое вытекает из признания благом блага всей моей жизни прошедшего и будущего в неразрывной связи с благом других людей и существ. При первом взгляде, страдания не имеют никакого объяснения и не вызывают никакой другой деятельности, кроме постоянно растущего и ничем не разрешимого отчаяния и озлобления; при втором, страдания вызывают ту самую деятельность, которая и составляет движение истинной жизни, — сознание греха, освобождение от заблуждений и подчинение закону разума.
Если не разум человека, то мучительность страдания волей-неволей заставляют его признать то, что жизнь его не умещается в его личности, что личность его есть только видимая часть всей его жизни, что внешняя, видимая им из его личности связь причины и действия, не совпадает с той внутренней связью причины и действия, которая всегда известна человеку из его разумного сознания.
Связь заблуждения и страдания, видимая для животного только в пространственных и временных условиях, всегда ясна для человека вне этих условий в его сознании. Страдание, какое бы то ни было, человек сознает всегда как последствие своего греха, какого бы то ни было, и покаяние в своем грехе, как избавление от страдания и достижение блага.
Вся жизнь человека с первых дней детства ведь состоит только в этом: в сознании через страдание греха и в освобождении себя от заблуждений. Я знаю, что пришел в эту жизнь с известным знанием истины, и что чем больше было во мне заблуждений, тем больше было страданий моих и других людей, чем больше я освобождался от заблуждений, тем меньше было страданий моих и других людей и тем большего я достигал блага. И потому я знаю, что чем больше то знание истины, которое я уношу из этого мира и которое мне дает мое, хотя бы последнее, предсмертное страдание, тем большего я достигаю блага.
Мучения страдания испытывает только тот, кто, отделив себя от жизни мира, не видя тех своих грехов, которыми он вносил страдания в мир, считает себя невиноватым и потому возмущается против тех страданий, которые он несет за грехи мира.
И удивительное дело, то самое, что ясно для разума, мысленно, — то самое подтверждается в единой истинной деятельности жизни, в любви. Разум говорит, что человек, признающий связь своих грехов и страданий с грехом и страданиями мира, освобождается от мучительности страдания; любовь на деле подтверждает это.
Половина жизни каждого человека проходит в страданиях, которых он не только не признает мучительными и не замечает, но считает своим благом только потому, что они несутся как последствия заблуждений и средство облегчения страданий любимых людей. Так что чем меньше любви, тем больше человек подвержен мучительности страданий, чем больше любви, тем меньше мучительности страдания; жизнь же вполне разумная, вся деятельность которой проявляется только в любви, исключает возможность всякого страдания. Мучительность страдания— это только та боль, которую испытывают люди при попытках разрывания той цепи любви к предкам, к потомкам, к современникам, которая соединяет жизнь человеческую с жизнью мира.
Глава XXXV
Страдания телесные составляют необходимое условие жизни и блага людей
«Но все-таки больно, телесно больно. Зачем эта боль?» спрашивают люди. «А затем, что это нам не только нужно, но что нам нельзя бы жить без того, чтобы нам не бывало больно», ответил бы нам тот, кто сделал то, что нам больно, и сделал так мало больно, как только было можно, а благо от этого «больно» сделал так велико, как только было можно. Ведь кто не знает, что самое первое ощущение нами боли есть первое и главное средство и сохранения нашего тела и продолжения нашей животной жизни, что, если бы этого не было, то мы все детьми сожгли бы для забавы и изрезали бы все свое тело. Боль телесная оберегает животную личность. И пока боль служит обереганием личности, как это происходит в ребенке, боль эта не может быть тою ужасающею мукой, какою мы знаем боль в те времена, когда мы находимся в полной силе разумного сознания и противимся боли, признавая ее тем, чего не должно быть. Боль в животном и в ребенке есть очень определенная и небольшая величина, никогда не доходящая до той мучительности, до которой она доходит в существе, одаренном разумным сознанием. В ребенке мы видим, что он плачет от укуса блохи иногда так же жалостно, как от боли, разрушающей внутренние органы. И боль неразумного существа не оставляет никаких следов в воспоминании. Пусть каждый постарается вспомнить свои детские страдания боли, и он увидит, что у него об них не только нет воспоминания, но что он даже и не в силах восстановить их в своем воображении. Впечатление наше при виде страданий детей и животных есть больше наше, чем их страдание. Внешнее выражение страданий неразумных существ неизмеримо больше самого страдания и потому в неизмеримо большей степени вызывает наше сострадание, как это можно заметить при болезнях мозга, горячках, тифах и всяких агониях.