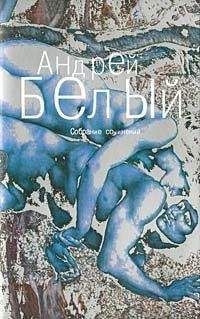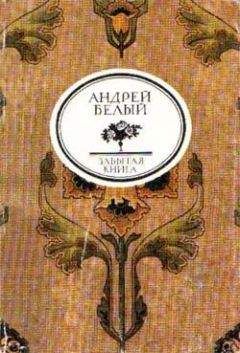Пьяная орава показалась из кустов:
«Зачеем ты мииняя завлиикала, зачем заставляяла любить? Должнооо быть, таагдаа-аа ты ни знааала…»
«Каак тяшка любви измиинить…»
Красная Петра рубашка быстро пересекла им путь.
— Ай да барин? Чаво иетта йён?
— Ишь тоже — приживальщик! — сплюнул кто-то.
И ватага гаркнула Дарьяльскому вслед.
«Миняя нии палююбит друугааяя… я буудуу мичтать ааб аадной…»
«Пааверь же, маа-яя дараагаа-аа-яя, наавек я увлекся таабоой».
Окрестность в ветре взметнула дерев плащи, пуская с дерев плащей край; листья, ветви, сухие прутья теперь отрывались в тусклую мглу востока.
— Туда — на восток, в мрак, в беспутство: Катя, Катя, куда мне от тебя идти?
А вдали замирало:
«У церквии стаа-яя-лаа каареета; там пыш-наая сватьба быыла…»
«Все гости рааскошнаа аадее-ее-ты, — на лицах их раа-даасть цвиила…»
— Вот тебе и у церкви карета, — попробовал усмехнуться Дарьяльский, но сердце его больно забилось.
Соломенный ворох, снятый ветром с дороги, записал по воздуху высокие праздные дуги, бессильно опустился на дорогу, снова тронулся — и побежал как-то вбок.
Песня еще звучала, но слов нельзя было разобрать. «А-а-а-а-е… аа-рилии» — и явственный такой в сыром в воздухе одиноко возвысился голос: «жии-ниих ни-приятный каа-кой… наапраснаа дивиицуу сгубии-иилии» — окончательно замерло за перелеском…
* * *
Уже темнеет; в сумраке заскрипели колеса; кто-то, как гаркнет там лошади: «Тпру!»
— Откуда? — рассеянно бросает Дарьяльский в стволистую тьму.
— Да аттелева: из ентава самаго места, — раздается из тьмы.
— А что у вас там?
— A y нас там степа…
Колеса опять заскрипели; Дарьяльский идет в синеющую тьму.
Завечерело; а все еще она стояла на балконе и смотрела туда, где красная полчаса назад на дороге мелькала рубашка Петра вплоть до того места, откуда он прощался с любимым прошлым; и уже он давно попрощался с прошлым, а еще она все стояла, все глядела туда, где прощался он с прошлым; и оттуда, из-за лесу, Целебеево ей подало голос жалобной песней и стоном гармоники: «Нии-веста была в беелаам платьи; букет был приколат из рос… Ана на свитое Распятья тасклива глядела сквозь слес…»
Кате хотелось плакать; она вспоминала и милого, и успокоенную теперь бабку: бабка только что досыта у нее выплакалась на груди и тихо, бессильно заснула, как обиженный ребенок, выпросивший прощенье: и Катя ей все простила, забыв оскорбленье: и за себя, и за Петра. Тихо обнявшись, они сидели сейчас, сонная бабка и тихая Катя; завтра и Катя, и бабка напишут другу Петра, проживающему в Целебееве: ссора уладится.
Перед ней расстилался пруд; заря воздушно легла на сырые дорожки; и едва багрянели дорожки; и едва багрянел высокотравный луг; отцветали любки в сырых жемчугах росы; тяжко и страстно цветки издышались на все великолепным своим благовоньем; вдали поднялся хриплый и робкий звук, и от него чем-то повеяло родным, пережитым в лучшие времена жизни; пережитым, забытым повеяло: это хрипел бекас; белое море тумана медленно разлилось по низинам. Далеко был теперь ее Петр; но к нему Катя вернется; будет жизнь ее, будет; и жизнь эта будет вольна и свободна; будут в краях иноземных, заморских они с Петром — в тех краях, где дурная людская молва будет гнаться за ними, и не угонится: ни дурная молва, ни бессильные бабкины воркотанья; будет день: счастливые супруги, они вылетят на волю из старого гнезда; и это время уже приходит…
* * *
Катя сидела в светлице, прислушиваясь к порывам бунтовавшего ветра: «Где-то, должно быть, выпал град».
Тук-тук-тук, — раздалось в ее дверь: кто бы там был? Жутко теперь, когда уже в окна смотрится ночь, открывать девицам девичьи двери: за дверьми коридор, переходы, своды, да и сам чердак.
Тук-тук-гук, — раздалось в ее дверь.
— Кто там, Евсеич?
— Я-с, барышня…
— Чего тебе?
Дверь отворилась; серая Евсеичева выглянула голова, попрыскивая смехом, — а Евсеичева тень так черно прошмыгнула на выбеленную известкой печку.
— Ну, чего?
— Хе-хе-хе-с! Забавно-с… Посмеивается, попрыскивает, пофыркивает
Евсеич: он доволен теперь: матушка-барыня изволит теперь почивать, — а старику не спится: он пришел позабавить дитю.
— Хе-хе-хе-с! А я, барышня, еще по-новому на печи свинку слагаю-с. Вот-с: безымянный-то пальчик изволите подогнуть-с, большим пальцем — так… Хе-хе-хе! — заливается Евсеич, а черная, теневая свинка уже поплясывает на стене… И Катя рада.
— Ну, довольно, довольно, старик: пора спать…
Евсеич уходит; и Катя смотрит ему вслед: там темно в коридорах, там страшно; и там, у чердака, шорох над лестницей: там похахатывает старик, заливаемый тьмой. У, как шумят деревья!
Ночью опять привалили тучи; Целебеево погрузилось в сон; узкая, зловещая полоска горела на западе.
В поповском садике трынкала нынче гитара весь день; после, вовсе уж ночью, село пересекал пьяный голос дьячка: «Отроцы семинарстии посреде кабака стояху, взывающе: сивуха, бо, матерь преблагословенна! Вниди в нас твое бла-гоутробие». И голос замер.
Когда ревмя взревет черная ночь и ежеминутно зажигается небо, упадая на землю душными глыбами облаков, а мраморный гром поварчивает тут, среди нас, будто на самой земле, без дождя, и в стойле успокоенно не фыркнет лошадь, — лишь горластый петух не в урочный час распоется на насесте, и никто не вторит ему, — в Целебееве душно так, страшно так. Редкая изба издали поморгает на тебя огнем; а войди в ее пролитой свет, — обступившая кругом тьма еще почернеет; нет, не заглядывай к тому к сельчанину в окошко, который рано не тушит огня в эту ночь: странен и страшен тот, кто в этот час не боится падающих в окно молний.
Бесприютно прослоняешься ты в Целебееве; под ударами молний ночлега себе не найдешь, а еще, пожалуй, ослепнешь, как красная баба Маланья из тучи на тебя поглядит, и ты ее на мгновенье увидишь, как попрыгивает по тучам она; и ты на мгновенье увидишь всю даль — красной.
А потом, во тьме подкрадется к тебе раскоряка и защемит, задушит в сухоруких руках, и найдут тебя поутру повешенным на кусте; только одни богохульники бражничают в ночи такие, воровские свои решают дела, как вот сейчас в чайной, где собрался всякий сброд, Бог знает кто и Бог знает откуда, дул водку и горланил, поглядывая то в черные, а то в красные от молнии окна:
Маланья моя,
Лупоглазая моя!
Ты в деревне жила,
У дьячка служила.
Так поживши мало,
Горничною стала,
Лихо зафрантила,
Пыль в глаза пустила…
На голову они там себе поют, парни: в такие ночи сухие кусты ползают по деревне, обступают село воющей стаей; красная баба Маланья летает по воздуху, а за ней вдогонку кидается гром.
Кто же, кто, безумец, всю ночь тут ходил по селу, обнимался с кустом да, зайдя в чайную лавку, со всяким сбродом прображничал и не час, и не два? Пьяный, — кто потом провалялся в канаве? Чья это красная рубашка залегла под утро у пологого лога, у избы Кудеярова столяра? Чей посвист там был, и кто из избы на посвист тот отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму?
Глава четвертая
Наваждение
— Дай, — скажет сожитель Матрены Семеновны, столяр, — дай, — скажет, бывало, — пройдемся по местности земли: погулям… — Так скажет, бывало, в праздничный день и с красного своего угла закряхтит, опрокидывая чашку с росписью розовых розанов, на которую всенепременно положит огрызок колотого сухарку, уже усеянный мухами: скажет, — и Матрена Семеновна ковровым заколется платком: пошли… Так и ходили вместе по нашей улице, поплевывали дынными семечками.
Это он, столяр, напялит поверх красной рубахи зипун на одно на свое плечо; тоже это с кряхтеньем натянет скрипучие свои сапоги, просушенные на печи: и очень даже достойно знатный поставит супротив себя нос — зашагает; а за ним Матрена в полуботинках да в канареечного цвета баске и с аграмантовым украшеньем[61] (подарком богатой свойственницы). Так и гуляли — муж да жена! Щелкали семечками; достойные, совершенно достойные люди; будто бы и не крестьяне они, а к сословию приписанные мещанскому; пройдет ли тут кто, сейчас это картуз долой да им быстрый поклон, так что вихры подпрыгнут: — «Здрасте, Митрий Мироныч… С праздником, Матрена Семеновна!» — пройдет ли дьячок, тоже это сейчас: — «Столяру Кудеярову!» — кланяется.
А вокруг белые избы, красные избы, зеленые, с масляной краскою выбеленными окошечками, изукрашенными резьбою и с третьим чердаш-ным под крышей окном, бьющим тебя по глазам солнечным отраженьем; а вокруг же благорастворения сладостные ароматы: то у ног прохладно озерце синим поплескивает студенцом, аером манит, и в него по скату стекают будто из живой слюды желтые гремучки-струйки, а рыболов у самой воды остановит полет и с рыбкой в когтях бьется на одном месте белоснежным, острым крылом! а то это будто из самого синя неба красный свесит свой дерево блекнущий лист, а в том листе синичья, осенняя сладкая пискотня: так по осени, по прошествии всех уже трех Спасов[62], пара гуляла — из года в год: столяриха да столяр; до лесу доходила та пара и поворачивала обратно: уходящие в высокую голубизну там стояли острые гребни нежно-розового цвета и всяких отливов и рыжие трепетали живо березки ржавчиной и парчою, точно в первопрестольный праздник облаченное духовенство; белочки из орешника красная протягивалась мордашка; и среди такого всего выдавался, ежели стать сбоку, Митрия Мироновича, суздальский лик иконописный.