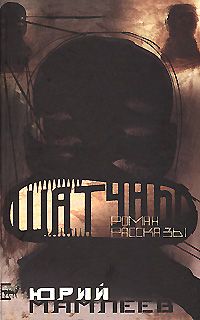В конце концов его стремление представлять себя в воображении в виде женщины с течением времени почти стерлось; чаще он видел себя уже непосредственно, в том виде, в каком существовал; это было полноценней с точки зрения любви к "я" и поэтому сладостней; к тому же и вид его все более и более изнеживался, хотя это уже был конечно второстепенный момент... Время окрасилось в бурные, неугасимые тона. Все существование трепетало в легкой, бесконечной, сексуальной дрожи. Это было связано с тем, что жгучий источник полового раздражения, то есть собственное тело, был всегда при себе. Среди грохота и гама раскореженного мира, среди пыли, воя сирен и людских потоков, любое, даже случайное прикосновение к обнаженной части своего тела вызывало судорогу, не только телесную, но и души.
Мир исчезал, словно делаясь оскопленным, и сексуальная энергия направлялась внутрь, обволакивая "я" безграничной любовью. Легко и радостно было тогда Извицкому проходить сквозь этот оскопленный, лишенный плоти и интереса мир...
Зато самого себя он чувствовал наполненным не выходящей страстью. Он мог целыми днями ощущать себя как любовницу. Оргазм был сильнее, чудовищней и больше колебал душу, чем во время любви к любым женщинам или мужчинам. Одно сознание плотского соединения с самим собой, плюс сознание, что ты наконец обрел любовь к самому дорогому и вечно-бесценному, придавало ему - оргазму нечеловеческое, последнее бешенство.
Но и устав от обладания, Извицкий с бесконечной нежностью всматривался в свои отражения в зеркалах. Каждый изгиб собственного тела мучил своей неповторимой близостью; хотелось впиться в него и разбить зеркало. От мира сквозило бесконечной пустотой; даже женщины, которых Извицкий порой использовал в качестве механизма во время любви к себе, настолько не замечались, что казалось их тела и души были наполнены одним воздухом. Зато какая радость была очнуться одному в постели и почувствовать обволакивающую, принадлежащую только тебе нежность своего тела! Каждое утреннее прикосновение к собственной коже, к собственному пухлоокруглившемуся плечику вызывало истерический, сексуальный крик, точно там, в собственном теле, затаились тысячи чудовищных красавиц. Но - о счастье! - то были не чуждые существования, а свой, свой неповторимо родной, неотчужденный комочек бесценного "я"; в восторженной ярости Извицкий не раз впивался зубами в собственное тело... Собственные глаза преследовали его по ночам. Иногда в них было столько любви, что его охватывал ужас.
Такова была поэма, длившаяся уже целый год. И именно в таком состоянии Извицкий приехал в Лебединое.
XVI
Возглас Анны "Ты ревнуешь себя ко мне!" застал Извицкого врасплох. Во время любви к себе ему приходилось использовать женщин в качестве механизма. Но то, что произошло у него с Анной носило уже другую печать. Анну Извицкий не мог воспринимать как механизм. Прежде всего потому, что еще раньше, до возникновения любви к себе, он испытывал к ней сильное, поглощающее чувство. В Лебедином же метастазы этих чувств внезапно ожили. Извицкий почуял пробуждение прежних, уже казалось забытых эмоций, эмоций направленных во вне. Их оживлению к тому же способствовала их двусмысленность: ведь Анна была не просто извне, в тоже время она была неимоверно близка по духу, целиком из того же круга, из того же мира, как бы изнутри. Сначала Извицкий полностью отдался течению эмоций, но потом чувство к Анне натолкнулось на растущее, органическое сопротивление...
Прежде всего сознание (можно даже сказать высшее "я") встретило крайне враждебно этот прилив чувства, оценив его как измену. Чувства, правда, как бы раздвоились:
он видел в себе возможности любить как себя, так и Анну. Зная как опасно подавлять влечение внутренней цензурой, он решил не противиться любви к Анне.
Однако же его опасения были напрасны: за этот год он слишком углубился в любовь к себе, чтобы это чувство могло надолго отступить. Оно продолжало неизменно существовать, хотя одновременно было сильное влечение к Анне.
Такой раздвоенный, иронизирующий, чуть подхихикивающий над самим собой, Извицкий выехал из Лебединого с Анной. Но, оставшись с ней наедине, в комнате, охваченный ее обаянием, он, упоенный, бросился в ее объятия, целиком отдавшись новому влечению. Прежнее вдруг исчезло. Оно неумолимо предстало перед ним вновь в самый неподходящий момент. Целуя Анну, сближаясь с ней, он вдруг почувствовал какую-то острую, нелепую жалость к себе. Жалость к себе из-за того, что его секс направлен не на себя, что он целует чужое плечо. Одновременно в сознании молнией пронеслась мысль о прежних неповторимых чувствах и ощущениях. Тело его ослабло, а чужое тело показалось смешным и далеким. Именно, потому, что оно - чужое. В этот момент Извицкий захохотал и Анна взглянула на него...
...Он выглядел очень смущенным. Анна быстро коснулась его колен: "дорогой"; где-то она любила его даже больше, чем Падова. Одновременно страшная догадка жгла ее; разом осветив все изгибы прежнего поведения Извицкого. Она спросила его: "Да?".
Извицкий покорно наклонил голову: Да. Иного ответа быть не могло. Нервная дрожь охватила Анну. В обрывочных, но определенных словах Извицкий нарисовал картину.
Они встали. Некоторое время прошло в полном молчании. Анна уходила на кухню - покурить.
- Но это ведь Глубев, - вдруг сказала она, вернувшись. Извицкий расхохотался.
- Скорее всего искажение этой религии или секта внутри нее,
- ответил он. - Ведь у них любовь к Я носит религиозный и духовный характеры.
- Да, но и религиозная любовь может иметь сексуальный момент.
- Но чаще всего сублимированный... И притом только момент. У меня же, как видишь, все по-другому.
- Дух можно привносить и в голый секс.
- Разумеется... Конечно - для меня это не составляет тайны - все началось с того, что я - независимо от всех - близко подошел к религии Я; когда действительно - всеми фибрами, всем сознанием - ощущаешь свое "я" как единственную реальность и высшую ценность то... и сексуальная энергия, сначала подсознательно, естественно направляется на это единственное, бесценное... Ведь остального даже не существует... Вот мой путь... вера в "я" дала толчок сексу, освободила поле для него...
- Я так и думала. Метафизический солипсизм ведет к сексуальному, прервала Анна.
- Не всегда так... У глубевцев по-другому.
- Да, - улыбнулась Анна. - Как говорят, аскетизм рано или поздно неизбежен. Ведь надо же обуздать это чудовище внутри себя. К тому же, и чистый Дух вне эротики...
-Но в моем пути, - продолжал Извицкий, - который можно считать резко сектантским в пределах религии Я, метафизическое обожание собственного "я" приняло чисто сексуальную форму. Даже мое трансцендентное "я" лучше предвидится в любви.
Каждое мое прикосновение к собственной коже - молитва, но молитва себе...
Глаза Извицкого загорелись. Анна была невероятно взволнована. В глубине такой эго-секс импонировал ей и она могла бы только приветствовать его. Но в то же время она была уязвлена, чуть стерта и желала восстановить равновесие. Ведь только что Извицкий - как она думала - любил только ее. Она не могла не попытаться - почти безосновательно- прельстить Извицкого.
Где-то достали вино и Анна употребила все свое тайное очарование. Она знала, что значит для людей их круга духовная близость к женщине чрез общие, мракобесные миры. Молчаливым восторгом приветствовала она и сексуальное открытие Извицкого, но словно призывая его разделить эту свою победу с ней. Этим пониманием его тайны она в последний раз очаровала Извицкого; он был в раздвоении и никак не мог оторвать взгляда от тела Анны, сравнивая его со своим. Оно опять казалось ему таким родным, что в некоторые мгновения он не мог ощутить разницу между своим и ее телом. Оно завораживало его каким-то внутренним сходством.
Потом, нежно дотрагиваясь до ее плеч, он все-таки, даже в угаре, уловил эту бездонную, страшную разницу, хотя она - в тот момент касалась только ощущений.
Увы, не было того абсолютного чувственного единства между любимым и тем, кто любит, которое сопровождало его эротику... Все-таки Анна была точно за каким-то занавесом.
Понемногу он приходил в себя, в глубине сердца предчувствуя, что Анна не сможет одержать победу в этом чудовищном поединке, тем более, когда он окончательно опомнится...
Анна виделась, как сквозь туман. Извицкий был так погружен в свои мысли, что не мог понять ее состояния. То ли она улыбается, то ли нет?
Наконец, они вышли на улицу. Внутри Извицкого вдруг выросло неопределенное желание овладеть собою. Даже дома казались ему проекцией собственного тела.
Прежнее влечение торжествовало: оно было сильней, реальней и нерасторжимо связывалось с "я", с его существованием.
Зашли в одинокое, стеклянное кафе. Анна была нежна, но как-то по-грустному.
Реальность ее лица мучила уже где-то на поверхности. Вопрос о ее существовании уже не решался, он просто отодвигался в сторону, а в сознании накалялись свои реальности, свои черты...