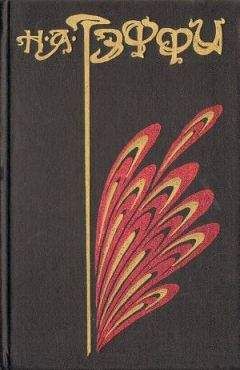Она снова лукаво грозит пальчиком, но он, удивленно взглянув на нее, отходит прочь.
— Ушел, ушел! — с тоскливой злобой шепчет Ольга Андреевна. — Кривуля несчастный! Ну кому ты нужен, мочальная борода, идиот собачий. Туда же и фамилия хороша: Купыркин!
— Купыркин-то Купыркин, а все-таки ушел! — злорадствует живот.
И Ольга Андреевна вдруг вся отяжелела, распустила губы и, крякнув, поднялась с кресла.
— Пойду, отдохну,
Из толпы кто-то кивнул ей.
— Анна Михайловна!
И снова губы подтянуты, глаза лукаво прищурены, корсет торжествует победу.
— Анна Михайловна! Вы еще остаетесь? А я домой. Кое-кто (тонкая улыбка) обещал заглянуть. И кроме того, скажу откровенно: боялась, что этот Купыркин опять привяжется!
— А разве он так за вами ухаживает?
— Ах, ужас! Прямо прохода не дает. Женатый человек. Возмутительно.
Она вся розовеет, и уши ее с восторженным удивлением слушают, что говорит рот.
Потом отходит бодрой, молодой походкой и на протяжении десяти шагов верит себе.
Но вот в смутной тревоге, точно почувствовав какой-то обман, она приостанавливается и вдруг с сердитым и обиженным лицом начинает спускаться с террасы, грузно и откровенно по-старушечьи нащупывая ступеньки одной ногой.
— В деревню поезжай, старая дура! В деревню — грибы солить да варенье варить! Ду-у-ра!
Большая, светлая, полукруглая комната.
У стены на колоннах желтые астры. Всегда желтые, всегда астры.
Может быть, живые, а может быть, и искусственные — никто этим не интересуется.
Курортные цветы, как и цветы, украшающие столы ресторанов и вестибюли гостиниц, всегда какие-то загадочные. Ни живые, ни мертвые. Каждый их видит и чувствует, какими хочет.
В полукруглой комнате расставлены в живописном беспорядке соломенные кресла. На креслах подушки. На подушках дамы.
Дамы всевозможных возрастов, национальностей и наружностей.
Немки, польки, француженки, англичанки, еврейки, русские, румынки.
Носатые, курносые, черные, белые, худые, толстые.
Старые, ни то ни се и молодые.
Несмотря на все разнообразие своих внешних качеств, выражение лица у них у всех совершенно одинаковое, — сосредоточенное и вдумчивое, точно они прислушиваются к чему-то очень важному.
Это потому, что занятие, которому они предаются, очень важно: они потеют.
Ни в каком другом месте огромного земного шара не существует подобного занятия, только в курорте. И придается ему такое серьезное значение, какое вряд ли сможет вызвать какое-нибудь крупное общественное событие.
Дамам томно, душно.
Они молчат.
Только глаза, блеснув белками, изредка поворачиваются.
Проходит минут пять, десять, двенадцать.
И вот шевельнулся какой-то нос, повернулся в сторону, и рот, помещающийся под этим носом, томно спросил:
— Ну, что?
— Гм?.. — переспросила соседка.
— Помогает?
— Ничего не помогает. Гораздо хуже стало.
— Так зачем же вы не уезжаете, я бы на вашем месте сейчас же уехала. Очень нужно мучиться, когда пользы нет.
— А вы поправляетесь?
— Я? Странный вопрос! Точно вы не видите сами, что мне с каждым днем хуже. Не сплю, не ем. Прямо извелась совсем.
— Ай-ай-ай! Так вам бы уехать скорей! Чего же вы тут сидите?
— Гм..
Обе замолкают и смотрят друг на друга с недоумением.
Снова тишина.
Вот шевельнулся другой нос. Шевельнулся, повернулся.
— Вы у кого лечитесь?
— У Копфа.
— А я у Кранца. Замечательный доктор этот Кранц! Вы знаете, в прошлом году у него был роман с одной венгеркой.
— Да что вы! А я слышала, наоборот, что его в прошлую субботу рыжая полька поцеловала. Знаете, эта, с кривыми зубами.
— Да неужели? Ах, какой же он нахал!
— Она, знаете, так в него влюбилась, что каждый день розы ему посылала.
— И он принимал? Я, право, никогда не думала, что может быть такое нахальство в медицине. Но почему же вы лечитесь у Копфа, а не у Кранца?
— Да, знаете, прямо боюсь к нему обращаться. Я здесь одна, без мужа. Он еще себе позволит что-нибудь, какие-нибудь поползновения. Неприятно.
— Ну, у него и без вас большая практика.
— Нет, я ни за что, ни за что не пошла бы к нему. А скажите, неужели у него все часы уже заняты?
— Ну, конечно.
— Это ужасно. Я еще с прошлой субботы записалась, да, видно, так и не дождусь очереди. А этот Копф такой дурак — все только «покажите язык» да «покажите язык». Не могу же я целый день с высунутым языком ходить, Я не так воспитана.
— А скажите, доктор Кранц эту польку тоже поцеловал?
— Да уж наверное. Раз он эту дуру, из Москвы, в зеленом капоте, поцеловал, так чем же полька хуже?
— Неужели в зеленом?.. Она даже некрасивая, волосы накладные…
— Вот действительно, попадешь к такому врачу и навсегда испортишь себе репутацию. Однако ведь не со всеми же он целуется. Есть такие, которые себя уважают.
— Ну, конечно. Вот мадам Фокина, из Харькова, лечится у него четвертую неделю, и ничего.
— Да она, может быть, просто не признается. Целуется да молчит.
— Неужели? Какой ужас! Куда же вы?
— Пойду попрошу, чтоб поторопились. Нет, право, досадно: неделю назад записалась к Кранцу, а они меня до сих пор Копфом морят. Вы, пожалуйста, не подумайте… я ведь, когда записывалась, и понятия не имела, что он такой нахал. До свиданья пока!
Шевельнулся еще нос. Повернулся.
— Простите, мы с вами еще не знакомы. Я из Одессы.
— Очень приятно.
— Извините, я хочу с вами посоветоваться.
— А что? Вы себя плохо чувствуете?
— Нет, я хотела с вами посоветоваться… Вы давно здесь?
— Вчера приехала.
— А я три недели. У вас такое лицо, что, мне кажется, вы можете посоветовать — извините — насчет болгарина.
— Я не знаю, я не слыхала про такую болезнь. И что же, очень беспокоит?
— Ужасно! Понимаете, он живет в девятом номере и страшно в меня влюблен. Он буквально две недели меня преследует. Куда я ни пойду — он всюду. Я нервная, я лечусь от неврастении, а он покоя не дает. Представьте себе, иду я в столовую обедать — смотрю, он уже сидит. И еще притворяется, что не видит меня. Ужас! Пошла вчера в кафе — смотрю, а он уже сидит там. Утром иду в ванну — вдруг кто-то выходит из мужского отделения. Оглянулась — он. И опять как будто не видит меня. Вчера, вечером, гуляю, вдруг — мотор. Что такое? Смотрю — он на моторе мимо меня проехал. Ну, прямо не знаю, что делать? У меня муж такой ревнивый в Одессе. У меня неврастения, я лечусь, а тут этот болгарин.
— Да вы не обращайте внимания.
— Легко сказать. Две недели подряд человек преследует меня. И главное, что ужаснее всего — не говорит со мной ни слова. За все время ни одного слова! Такой нахал!
— Может быть, немой.
— Какой там немой! Небось, с другими так трещит, что слушать тошно. Вот сейчас позвонят к завтраку, и он уже, наверное, сидит на своем месте. Нет, чтобы так преследовать порядочную женщину! Я лечусь. Мне нужен покой… Так вот я хотела с вами посоветоваться… Как вы думаете: что если ему послать цветов… может быть, он тогда заговорит? А? Как вы полагаете?
Снова тишина.
Носы опускаются ниже. Дамы дремлют. Желтые курортные астры опустили свои перистые звездочки.
Странные. Ни живые, ни мертвые.
Когда пробило одиннадцать, темный молодой человек, с нежным профилем молодого Байрона и бледно-мечтательными глазами, попрощался и вышел.
За чайным столом остались только свои.
— Скажите откровенно, — обратилась одна из дам к хозяину дома, — неужели и этот Байрон будет когда-нибудь брать взятки?
— Этот?
Хозяин чуть-чуть усмехнулся.
— Прежде дело куда легче и проще было. Картина была прямо библейская, и невинные барашки паслись рядом с хищниками.
Каждый знал, что ему нужно делать, и все понимали друг друга.
Анекдоты о добром старом времени складывались самые уютные и безмятежные:
Приходит подрядчик в министерство.
— Так, мол, и так, как обстоит мое дело?
А чиновник в ответ опустит нос в бумагу и буркнет:
— Надо ждать.
— Ага, — думает подрядчик. — Значит, надо ж дать.
И даст, сколько нужно.
Придет во второй раз.
— Ну что? Как?
Чиновник подумает и скажет внушительно:
— Придется доложить.
— Ага! — подумает подрядчик. — Значит, мало дал.
И доложит, сколько не хватало.
Чиновник просветлеет и скажет умиротворенно:
— Ну вот теперь все в порядке.
И дело будет сделано.
Это, конечно, анекдот. На деле бывало еще проще: повернется чиновник к подрядчику спиной и поиграет пальцами.
Словом, просто и мило, и даже весело.
Теперь не то.
Когда пошло мое дело, мне сразу сказали, что нужно этому самому Байрону взятку дать.