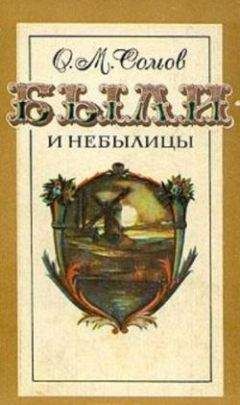Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли — скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойною наклонностию беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что маленький наш капрал1 променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как. сударь, оправдывается наша пословица: желание лучшего — враг добру (le mieux est l'ennemi du bien). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от модного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, нэзло старому Террье, отцу Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, подкупал почтальонов, чтоб они завозили к нему проезжих, всякими неправдами переманивал от нас постояльцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листках — и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.
Я побежал сказать Селине о нашем несчастии, думая, что как-нибудь прокрадусь в приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видеться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. «А, любезный господин Ахилл, — сказал он мне с самою злою улыбкою, — вы, верно, отыскиваете здесь кого-нибудь из комиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек — не браться не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей — вот ступеньки вниз и на мостовую!»
Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины, — и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд, в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такою ужимкой, которая ясно говорила. «Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы». Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице.
С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой — уже не в большой и богатый трактир, а в скудную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня новые неприятности, вместо прежних нарядных мебелей увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотовство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку, отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрою, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира… бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась вверх и задушила его. Я распродал остальное, убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было бы ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня никто не знает, — думал я — и исполнил.
Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молода и богата, за нее найдутся многие женихи, почему знать? Может быть… и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице — отсутствующие всегда виноваты. Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж, меня тревожили; самолюбие в некоторых случаях есть одна из самых утешительных наклонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне — по крайней мере в моем воображении — самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.
Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль — усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но человек обдумывает, а бог определяет! Я накопил десятка три наполеондоров и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неугомонная страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем, взглянул на него и вскрикнул: «Это ты, Жорж?» — «Это ты, Ахилл?» — был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. «Да, — продолжал он, — это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой — Жорж Ламитраль, к твоим услугам». — «Ужели?..» Жорж не дал мне докончить: «Прибереги свои ужели до другой поры, — сказал он, — а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память старой нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною, попраздновать вместе встречу с старинным другом?» Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и чрез минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.
Между шутками и смехом, которыми сопровождалась каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила — и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он скоро забыл все свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; си пел, пил вино и проказил за четверых.
Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул рука на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь, — я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.