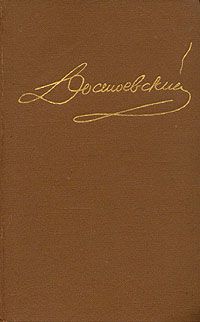— Ничуть, — отвечаем мы, — да и боже нас сохрани! Кому приятны невежества и предрассудки, да еще не просто невежество, а «мрак невежества»? Только вот что: исключительное напирание на невежество и предрассудки и исключительная забота поскорее как можно искоренять их в народе, по нашему мнению (в некотором смысле, разумеется), — тоже невежество и предрассудок. Не знаем, как бы нам яснее выразиться. Вот, например, мы знаем, что народ предубежден против нас, господ; до того предубежден, что даже хорошее-то будет слушать от нас недоверчиво. Ну, а мы, несмотря на это, все-таки хотим подходить к нему не иначе как власть имеющие, как те же господа, — одним словом, даже и не можем иначе поступить, то есть поступить пообиходнее, помягче, получше узнав, в чем дело. «Народ глуп, следственно, его надо учить» — вот только это одно мы и затвердили, и если уж господами нам предстать перед ним не удастся, то, по крайней мере, мудрецами предстанем… Впрочем, прервем на время наши рассуждения. Мы никак не можем отказать себе в удовольствии выписать тут же суждение самого г-на Щербины о некоторых наших прогрессистах и умниках и вообще о так называемых «знатоках» нашей народной жизни, готовящих себя в ее руководители. Это золотые слова!
«Иная книга и была составлена,* по-видимому, весьма умно, но в народе все-таки не прививалась оттого, что как-то невольно сбивалась на немца или француза, переодетого по-мужицки, а между тем на чувство простолюдина скорей подействовали переводы „Потерянного рая“ или „Франциля Венецияна“*, чем книги, писанные соотечественниками собственно для народа, его языком и почерпнутые из его истории и быта. На это стоит обратить внимание. Мы были неспособны инстинктивно, прямодушно и вместе с тем практически стать твердою ногою на его почву, поставить себя на его место, перенестись на степень его развития, сердцем и умом уразуметь его понятия, вкус и наклонности. В этом нам не помогли ни таланты, ни познания, ни наше европейское образование, и это оттого, что Россию знаем мы всего менее, что начало национальности почти не входит в наше воспитание, отсюда у нас недостаток практичности, физиономии, самодеятельности мысли. Примемся ли мы за самих себя, за явления, факты и данные нашей жизни, мы непременно посмотрим на них в какие-либо цветные стеклышки, купленные нами или в Пале-рояле*, или на лейпцигской ярмарке, или на отечественном толкучем рынке.
К тому ж мы сами, не замечая того, люди рутины по преимуществу, и у всякого небольшого периода времени есть своя рутина. Попробуй-ка кто отнестись без предубеждения, не с низкопоклонным анализом к какой-нибудь модной и находящейся во всеобщем употреблении идейке, или к какому ни на есть кумирчику, которым мы крепки в данную минуту он будет смешан с грязью. Зато уж когда прорвется — нам и гиганты нипочем, мы представляем собою, с одной стороны, раболепие, находясь в крепостном состоянии у идеек и кумирчиков, с другой — нетерпимость и деспотизм у нас тот, кто разнится с нами в убеждениях, — или умственно ограниченный, или недобросовестный человек. Слова нет, у нас много благородных идеалов, просветленных европейской наукой, но нет знания многих условий, самомалейших данных, духа и обстановки нашей народной и местной жизни. Мы в практической жизни идеологи, и это частию и потому, что тут не требуется большого труда. Мы не воспринимаем знания всецело, органически, не начинаем своего изучения ab όνο:[18] с нас довольно последних результатов мысли, верхушек знания. Большинство из нас не более как „начетчики“. У нас очень легко сделаться умниками и передовыми людьми, попасть в литературные или другие какие либо общественные деятели. У нас только и существуют что две крайности или свой собственный, доморощенный „глазомер“, или без условное, безотносительное, рабски-догматическое принятие какого либо учения извне. У нас еще считают образованным, благородным, современным и, главное, умным человеком того, кто приобрел кое-какие знания в абсолютном смысле, в абсолютной стороне и сущности вещей и кто, имея самый обиходный рассудок, формулирует их, при случае, и разводит модными фразами и европейскими общими местами. Притом же подобные добродетели даже и лично выгодны в наше время. Мы еще далеки от того убеждения, что истинный разум только у того, кто в каждый известный момент найдется и сможет понять относительную сторону и значение вещей — этот омут беспрестанно вращающихся, изменяющихся и возникающих данных, кто в состоянии схватить и невидимую связь их с идеалом, и связь между собою. Да, тут уж требуется самостоятельность, самодеятельность мысли и прочная крепость знания. Этого уж не у кого вычитать. Но что же делать! Таков общий и, может быть, не совсем зависящий от нас недостаток нашего воспитания…»
Истинно золотые слова, благородные и золотые! Тут что ни слово, то правда. То, что отмечено в этой выписке курсивом, — отмечено самим г-ном Щербиною. Мы было с своей стороны хотели тоже отметить некоторые наиболее меткие и правдивые его выражения курсивом, — да и не отметили, потому что тут что ни фраза, то и отмечай ее крестом. Так метко и истинно, что мы редко читали что-нибудь умнее этого суждения. Жаль только, что немного отвлеченно высказано. Мы и такие-то истины не умеем как-то высказать в более близком приложении к действительности, то есть и умеем, да у нас это не принято. У нас все более сбивается на теорию, на знание в абсолютном смысле, в абсолютной стороне вещей, говоря словами самого г-на Щербины. Далее, продолжая свою тираду, г-н Щербина даже увлекается слишком сильным гневом. Гнев его, конечно, благороден, но не совсем справедлив, потому что уж слишком силен. Вот что говорит г-н Щербина:
«Подобные, по-видимому, ничтожные явления невольно наводят на мысль о необходимости коренного преобразования в нашем воспитании и просвещении. Несостоятельность, пустота и бесплодность их очевидны: нет в них корней своей народности, себязнания, нет в них и строгой науки. Мы еще просты до того, что пустозвонство модных современных фраз принимаем за образованность, мы благонамерены до того, что слово „прогресс“ не сходит у нас с языка, а на самом деле это слово у нас не имеет никакого значения. Чтоб действовать, нужно любить, чтоб любить, необходимо знать то, что любишь. Мы же не знаем того. И вот, все наши благородные стремления что называется, „с ветру“, привились модою, приняты извне за догмат, по силе всеобщего авторитета, и самое чувство любви к нашему делу мы на себя „напустили“
„То кровь кипит, то сил избыток“ — ибо любить невозможно не зная».*
Г-н Щербина тут слишком строг. Не может быть, что тут одна «кровь кипит и сил избыток»*, чтоб мы чувство любви к нашему делу на себя «напустили». Мы не верим в строгость такого приговора. Настоящее движение идей будет иметь со временем свою строгую и беспристрастную историю. Тогда, может быть, дело объяснится поглубже и поотраднее. Если посмотреть на дело не так отвлеченно, а несколько попрактичнее, основываясь на некоторых фактах, то между фактами, противными нашему мнению, мы наверно найдем несколько и благоприятствующих. К чему «одно худое видеть»?* Можно беспристрастно смотреть на дело и не будучи заклятым оптимистом, смешным оптимистом, потому что у нас, при обнаружении каждого мнения, чрезвычайно боятся смешного. Оттого-то так и много людей, держащихся мнений более общих, взглядов наиболее разделяемых. Походить на всех — самое лучшее средство радикально избегнуть смешного. Мы вовсе не хотим этим сказать, что г-н Щербина тоже несколько наклонен придерживаться общих мнений, походить на всех. Взгляд г-на Щербины, действительно, разделяется большинством наших людей, наиболее благородных и передовых, a наши передовые, естественно, не могут в взглядах своих на наше поколение значительно разниться с думою Лермонтова, хотя эта дума предупредила нас четвертью столетия*. Конечно, между передовыми людьми еще не положено теперь принимать, чтоб в двадцать пять лет между нами произошел хоть какой-нибудь прогресс: но невозможно, чтоб его совершенно и не было. Мы уверены, что г-н Щербина не потребует от нас именных фактов для доказательства мнений наших. Представим ему хоть, например, один случай, — именно следующий: там, где сам г-н Щербина, в своей тираде, которую мы выписали, говорит: «мы не знаем», «мы не ведаем»… «мы не любим»… «мы чувство любви на себя напустили»… «у нас кровь кипит, у нас сил избыток», — это словцо мы у г-на Щербины, вероятно, везде поставлено для учтивости. Ведь не считает же он себя в самом деле в этой же категории, то есть нелюбящим, недозревшим, любить неумеющим, напустившим и проч., и проч. Иначе не стал бы он так горячиться, так укорять, презирать, давать такие советы. Ну, а если так, то вот уж один и есть, умеющий и любить, и ценить, и действовать…