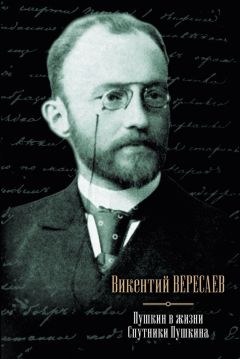Настька пела:
Ах ты, мать сыра-земля!
Ты скажи мне всеё правду,
Что какая зима будет, —
Лютые ль морозы, или глубокие снеги?..
В теплом, темневшем небе загоралось все больше звезд. От табора донесся голос тетки Соломониды:
— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь там… со всякими! До свету, что ли, сидеть будешь?
— Сейчас! — неохотно отозвалась Аленка.
— Вот я тебе «сейчас»! Иди, что ли! А то вожжой пригоню!
Аленка еще посидела, потом лениво поднялась и пошла. Настька улыбнулась.
— «Со всякими»… Тебя, ведьма, омекает!
— Что-то не любит тебя тетка Соломонида, все придирается, — обратился я к Доньке. — С чего это?
— Сердится на меня. С осени сердится. И не кланяется. Как помешалась я осенью, сама не помню, что творила: кричу, плачу, всего боюсь. Посадила по одну сторону маму, по другую батю, сижу под образами и молитвы пою… Весною и в Ненашеве у сестры гостила, там баба одна, Пелагея, помешалась, так та образа святые в крапиву швыряла. А я все только молитвы пела… Сижу, значит, пою. А тетка Соломонида подошла к окошку, смеется: «Знать говорит, дядя Афанасий, твоему корню конец приходит!» А я вскочила с лавки, кричу: «Конец, да не для вас! Прахом пойдет земля, а вам не достанется, колдунам!..» Вот и сердится на меня с той поры, не кланяется. А я чем виновата! Что крикнула, не знаю… Они-то все, конечно, были рады: не возьмет меня никто, земля обществу достанется. А землею у нас все тужат.
— И с чего это, Донька, случилось с тобою? — вздохнула Настька. — Такая здоровая была, а тут вдруг на-поди, что случилось!
Донька задумчиво ответила:
— Я вот все думаю, кому бы на работе было испортить? Ведь я на молотьбе тогда была в барской риге. Некому бы испортить, а выказывается порча. Пришла меня крестная проведать, в кармане бутылка со святою водицею, камешек иорданский, песочек… Она на порог, а я выскочила, за плечи ее схватила, смотрю в глаза: «Ты что в кармане несешь?»
— Почуяла, значит!
— Да, не иначе, как порча. А кто напустил? Разве я свят дух, могу знать?
И ее глаза с робким вопросом устремились в темноту.
— И опять же, отчитали меня. Мама пошла в Еньково, к старухе. С этой старухой каждый год припадки бывали; дала зарок молебствовать, — сняло. А как годом не помолебствует, опять припадки. Вот, значит, сижу я в избе на полатях, и словно котята у меня в животе ходят, под сердце подкатываются. А как пришла пора, значит, прочитала там старуха восемьдесят две молитвы, поднялась у меня рвота; зеленое что-то пошло, как лягушиные гнезда, а в них головки. И стало легче… Должно быть, порча. — Донька помолчала. — А может, господь покарал. Только уж не знаю, — любя ли, за грехи ли какие?
И опять ее глаза с тем же вопросом медленно уставились в темноту. И мне казалось, я вижу, как под этим робким взглядом в сумраке складываются и волнуются смутные, загадочные силы, цепко опутавшие всю жизнь беспомощного человека.
— А что, Донька, ведь не пройдет уж в тебе эта порча! — сказала Настька. — Прежнего цвета уж не будет, — кто тебя возьмет?
Донька опустила глаза.
— Федор дернопольский брал… Говорит: ничего, что ты порченая. А только нельзя ему к нам в дом идти, ему бабу к себе нужно.
— Ну, вот, бог даст, не найдется тебе жениха, и пойдешь за Федора, — заметил я.
— Нет, где же! Нельзя. Кто меня пустит? Мама больная лежит, бате одному не управиться. Мне на сторону идти нельзя…
Серп месяца скрылся за лесом. Было темно. От сажалки тянуло запахом влажной тины. Осинка на берегу робко шумела листьями.
Она была такая же стройная, как Донька… Эта осинка стоит тут, ее сечет градом, треплет ветром, ребята обламывают на ней ветки, а она стоит, робкая и тихая, и с нерассуждающею покорностью принимает все, что на нее посылает судьба. Придет чужой человек, подрубит топором ее стройный ствол, и с тою же покорностью она упадет на землю, и останется от нее только сухой, мертвый пенек.
Я лежал на копне. В небе теплились звезды; с поля, из-за кустов, несло широким теплом; в лесу стоял глухой, сонный шум. Тело, неподвижное и отяжелевшее, как будто стало чужим, мысли в голове мешались, и мешались представления. Стройная осинка, стройная Донька, обе робко и покорно смотрящие в темноту… Милая, милая! Сколько в ней глубокого, несознанного трагизма, и сколько трагизма в этой несознанности!
В конце августа в доме Коломенцовых появился новый человек.
Это был молодой парень, худой и маленький, с землисто-бледным лицом; одет он был по-городски — в пиджак и жилетку. Проезжая по деревенской улице, я не раз видел, как он вместе с Донькою рубил около избы хворост или молотил на току рожь. И странно было смотреть на этого маленького, как будто недоношенного природою человечка рядом со стройною красавицею Донькою, с ее тонкими, сильными руками… Неужели это новый жених?
Однажды вечером я проходил мимо избы Коломенцовых. На пороге, кутаясь в тулуп, сидела старуха — мать Доньки, Мавра, с желтым, мертвенно-сухим лицом и громадным животом. У нее цирроз печени и порок сердца, она уже второй год еле двигается и только в хорошие дни выползает на порог. Поздоровались.
— Как дела у вас? — с любопытством спросил я.
Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо.
— Батюшка! Женишок новый объявился! — таинственно сообщила она.
— Это тот-то, маленький?
— Да, да, да, да, да… Он, видишь, шпитонок[14], в Туле живет, в музыкантах, — зашептала она. — Значит, прожил у нас недельку, чтоб и ему присмотреться, и нам его узнать… Нынче утром ушел в Тулу… Приглянулась ему девка-то! Известное дело, сейчас же добрые люди понасказали про нее, ну, а он: «Пустяки, говорит, я этим не антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди в избу!
«Вот оно, совершилось!..» У меня тяжело сжалось сердце.
Мы с Маврой вошли в избу. Изба была черная, тесная, как клетушка, с грязным земляным полом. В ней пахло сажею и залежавшимся навозом.
Из риги воротились с молотьбы Донька и ее отец Афанасий. Афанасий был высокий и худой старик, с таким же, как у Доньки, продолговатым лицом, в его глазах было то спокойно-подчиненное, смиренное выражение, какое часто бывает у старых мужиков.
— Он где же играет в Туле? — спросил я Мавру про жениха.
— А там в хору, что ли, в каком. По десять рублей ему платят в месяц… Ученый. Читать может псалтыри над покойниками, все, что хочешь. Ростом низменный, а уж то-то разумом умен!
Донька сидела на лавке у окна, с руками на коленях. Она медленно улыбнулась и сказала:
— Чудной такой!.. Деревенской работы совсем не понимает, робливый. Скажешь: поди, напой лошадь! — «Она забрыкает!» — Пригони корову! — «Она забодает!»
— Плох насчет нашей работы, — согласилась Мавра, — мало понимает. «Я, говорит, мама, только курочек на своем веку и видел…» Раз послал его хозяин дровец порубить, а девка из сарая в щелку и поглядела: отрубит колышек, и к глазам его, — значит, плох глазами, опытности у него в глазах нету… «Вы, говорит, мама, не опасайтесь: я хоть на работу плох, а одним чтением на подани заработаю». Ну, а где там! Подань у нас тяжелая!
— Да только ли он глазами плох? Нет ли у него еще какой болезни? — спросил я, вспоминая подозрительно-землистый цвет лица парня.
— Господь его знает, батюшка! Нешто мы понимаем? Девка, та вот доглядела: подмышкой справа у него рубаха в желтых пятнах, вроде как бы дрянь выступает из бока… Ну, да ведь не всякому здоровым быть!
— Загублю я себя! — вздохнула Донька, глядя в темный угол избы.
Афанасий поучающе заговорил:
— Нужно, батюшка, так сказать, что и на том спасибо! Горе такое вышло, испортили девку у нас, не берет никто. А сынов-то нету, дома передать некому, — видишь? Пропадать приходится дому.
— А сохранить-то, значит, хочется! — объяснила Мавра. — Присватывался тут к девке женишок один, из Дернополя, да не может он к нам в зятья идти, а мы девку отдать не можем: нету сына, надобно зятя добывать.
— Плох паренек, плох, это надо правду сказать! — раздумчиво произнес Афанасий. — Мало пользы от него будет, а что поделаешь? Докуда ждать? Брезгуют девкою, сами видим — с изъяном.
— Отдали бы вы ее за Федора дернопольского. Что вы девку-то губите? — сказал я. — Сами говорите: плох парень, а ведь ей с ним всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь!
Мавра скорбно возразила:
— Батюшка, да нешто не жалеем? Уж так-то жалеем! Да что ж поделаешь? Нельзя нам ее в чужой дом отдать, — что с хозяйством станется? Дуры-то мы, дуры, силы мужичьей у нас нету, а не обойдешься без нас в хозяйстве, нужно, чтоб баба была. А от меня, милый, пользы никакой нет, уж второй год лежу… Старик и то иной раз заругается: «Когда ты сдохнешь?» Известно, наше дело христьянское, рабочее, Только хлеб задаром жуешь.

![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)