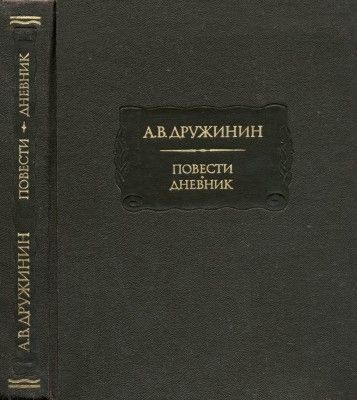эмилевское воспитание которого так сильно противоречило с требованиями нашего общества? Алексей Дмитрич в одно время улыбнулся, вздохнул и нахмурился.
— Да, ведь я у вас в долгу, — сказал он. — История Кости — это самый грациозный и грустный эпизод в моей истории, а стало быть, во всей моей жизни. Да и сверх того эпизод весьма поучительный, особенно в наше время, когда все говорят о воспитании. Приходите же вечером, я все расскажу по порядку.
Видно было, что Алексею Дмитричу приятно было толковать об этом предмете. Как узнаете из рассказа, Костя был первым другом, сестра Кости была первою его страстью. Привязанности эти проявлялись странно в моем герое, натура которого, по собственному его выражению, была вывихнута по всем составам [85]. Первая дружба его походила на любовь, первая любовь походила на дружбу, и в довершение всего, та и другая страсть кончились несчастливо. Вечером мы уселись на диван, и рассказ продолжался.
— Когда мне минуло шестнадцать лет, — начал Алексей Дмитрич, — синклит родных и друзей дома собрался в квартире моей матери. Толки шли обо мне, и боже мой! как длинно, как бестолково было это совещание! Главный мой учитель, maitre Jacques [86] между педагогами, с похвалою отозвался о моих успехах, но объявил, что для дальнейшего образования следует отдать меня в пансион. Мать моя отделила часть скудного своего дохода, родные пособили ей как могли, и, надо отдать им справедливость, помощь эта была и радушна и благородна. Только люди они были бедные, жертва их принесена была так неловко, что сердце мое сжималось, когда я о ней думал. В годовой цене за мое воспитание каждый рубль изображал собою лишение или был вынут из заветной суммы, которая хранилась на черный день, а черные дни так часты в жизни бедных семейств.
В то время было в большой славе приготовительное учебное заведение француза Шарле [87], взятого в плен в двенадцатом году и с тех пор проживавшего в Петербурге. В достославный для России год Шарле был не цирюльником, не барабанщиком, как иные из наших иностранных воспитателей: он служил поручиком в молодой гвардии императора, взят был в плен не в обозе, а с оружием в руках, на бруствере Шевардинского редута [88]. Однако, несмотря на такую романическую жизнь, Шарле был дурным человеком.
Я не имею ни малейшей слабости к ветеранам de la grande armee [89]. Эти синие мундиры, исходившие пол-Европы,
Ces habits bleus par la victoire uses [90] [91], —
хороши только в песнях Беранже. Шатаясь по свету, я видел двух или трех таких героев. Дико современному человеку слушать восторженные рассказы о том, как тридцать лет назад по тридцати тысяч человек гибли на каком-нибудь широком Ваграмском поле [92]. «Зачем гибли? для кого гибли?» — хочется спросить у этих стариков, да они посмеются над такими вопросами. Многие из них почитают Наполеона удивительным филантропом и в подтверждение расскажут вам, как он посещал госпитали после Аустерлицкого сражения...
Да кроме того все эти ветераны педанты, и жалкие педанты. Если б можно было какого-нибудь почитателя Фридриха Великого перенести на вахтпарад старого Фрица перед Потсдамским дворцом [93], если б можно было иного обожателя Наполеона посадить в кожу бедного конскрипта [94], подготовляемого для кампании... не то бы запели наши будущие жомини [95].
Шарле был педант, неумолимый, сухой. Он с ума сходил на системах воспитания, а обходился с огромным пансионом, как в прежние времена со своею ротою молодой гвардии. Он жал бедных детей, от чистого сердца давил в них все человеческие чувства; «строгость и дисциплина», — говаривал он при всяком случае, на каждом шагу.
Заведение его по справедливости могло называться нравственною бойнею. Благодаря репутации этого заведения, дети лучших фамилий поступали к нему каждый год в значительном числе. Несмотря на слезы, неизбежные при поступлении в пансион, мило было видеть эту вереницу новых жертв, эту кучку резвых мальчишек. Тут были и бойкие черноглазые дети, которые смело глядели перед собою, подтянув шейки, наподобие орленков; тут были худенькие белокурые мальчики с большими головами, с светлыми, задумчивыми глазками, нежные, причудливые создания, за каждым шагом которых надобно было смотреть с материнскою любовью.
Между ними были розовенькие дети, полные нежной аристократической calinerie [96], для которой нет названия на русском языке; изредка попадались между ними некрасивые ребятишки, у которых будущая энергия написана была на угловатых, резко обозначенных чертах лица.
Но Шарле не очень интересовался физическою стороною своих воспитанников, он не вглядывался с любовью в эти личики, не приспособлял занятий каждого ребенка к его характеру. Учителя были у него превосходные, в этом надо отдать ему справедливость, дети ели славно, гуляли довольно, а со всем тем страшно было посмотреть, что выходило через год из хорошеньких новобранцев.
У орленков глаза тускнели, крылья их опускались, сами они становились похожи на ворон или на галок. Жиденькие, белокурые мальчики худели еще более, рты их раскрывались самым глупым образом, идиотизм начинал просвечиваться в больших их глазах. Розовеньким аристократам было всего лучше, потому что Шарле был человек не каменный, любил принимать подарки от родителей; но и те видимо дичали и глупели.
На всякого мальчика, который неповиновением своим нарушал общепринятый порядок, Шарле смотрел как на личного врага. Наказание следовало за наказанием, шпионство обхватывало непокорного со всех сторон. Шарле беспрестанно шатался по комнатам заведения, учил старших присматривать за младшими, десятилетним юношам читал глубокую мораль, причем слушатель только встряхивал ушами и проклинал заботливого наставника. Благодаря ловкой политике содержателя заведения между воспитанниками царствовали постоянные несогласия, а по милости этих несогласий ни одна шалость не оставалась скрытою.
Известие о поступлении в пансион меня испугало: я никогда не видал детей одних лет со мною, и потому, при всем моем самолюбии, от недостатка сравнения был чрезвычайно дурного о себе мнения. Меня страшила и дисциплина, и ожидание новых товарищей, и самые науки. Сведений у меня было много в голове, но я пасовал перед каждой наукой, основанной на логической последовательности фактов. Всякое умозрение сбивало меня с толку. Оттого я никогда не знал математики, которая требует твердого базиса и умения выводить неизвестное из известного.
Физические силы мои были слабы, даром что я был высок и развит не по летам. Я был нескладен и хил, непонятная вялость преобладала над моим организмом. Я был похож на человека, который проспал без