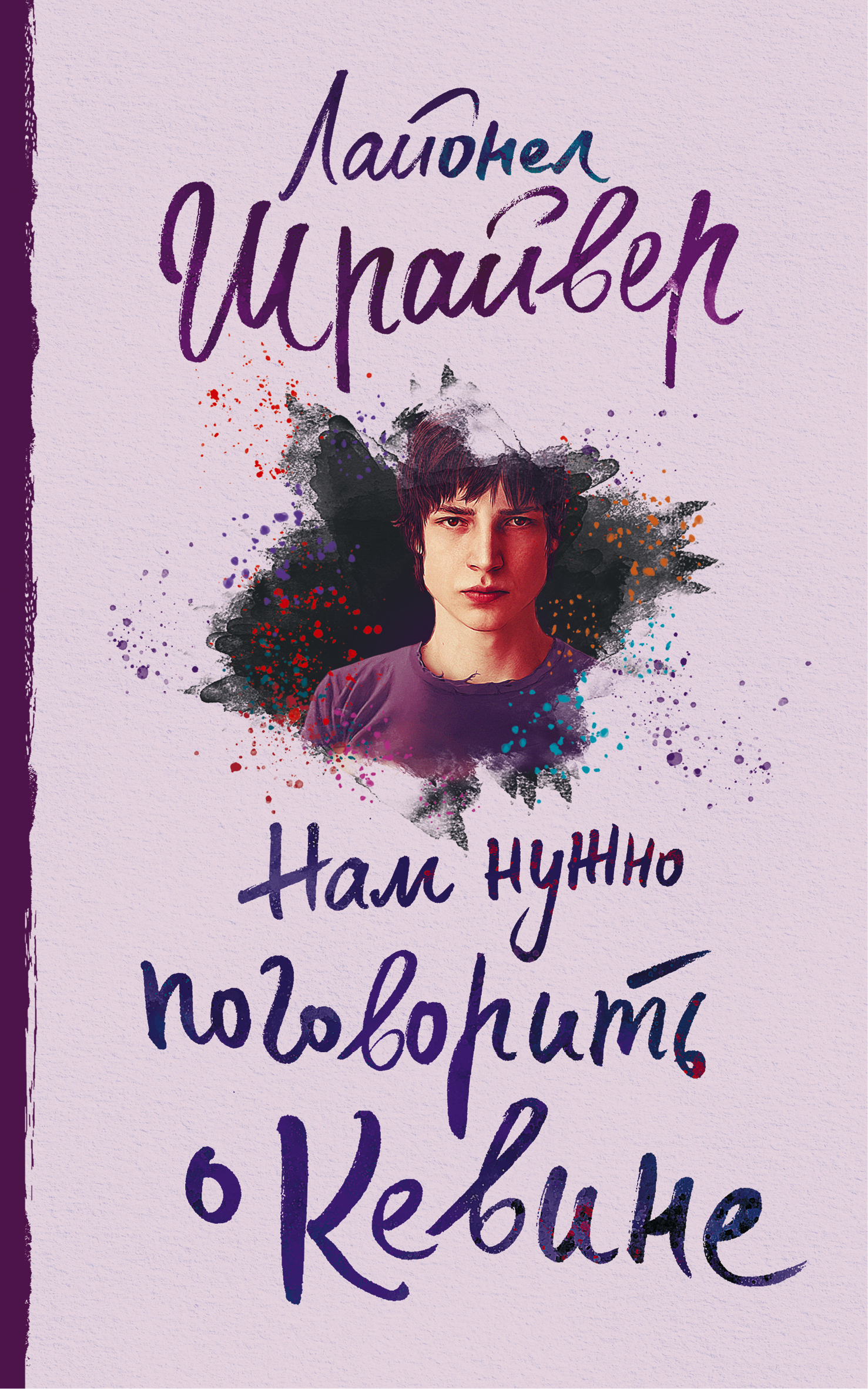он иногда вредничает…
– Вот видишь? Иногда вредничает.
Я проковыляла в кухню, не снимая с себя одеяла.
– Ты мне не веришь!
Я покрылась холодным потом и, должно быть, сильно покраснела или побледнела. От ходьбы у меня болели стопы, и по левой руке прокатывались волны боли.
– Думаю, ты сейчас честно говоришь о том, как тяжело ты это воспринимаешь. Ну а чего ты ждала – что это будет похоже на прогулку в парке?
– Нет, я не ждала, что это будет беззаботная прогулка; но это больше похоже на нападение бандита в парке!
– Слушай, он и мой сын тоже. Я вижу его каждый день. Иногда он немного поплачет – и что? Я бы беспокоился, если бы он не плакал.
Судя по всему, мои свидетельские показания не вызывали доверия. Мне придется призвать в свидетели другого человека.
– Ты понимаешь, что Джон снизу грозится переехать?
– Джон гей, а они не любят детей. Вся эта страна настроена против детей, я только что начал это замечать.
Такая суровость была на тебя не похожа, разве что в кои-то веки ты говорил о реальной стране, а не об усыпанной звездами Валгалле в твоей голове.
– Вот видишь?
Кевин приподнялся у тебя на руках, и мирно, не открывая глаз, взял бутылочку.
– Прости, но большую часть времени он кажется мне вполне добродушным.
– Он сейчас не добродушный, он измотанный! Так же, как и я! Я знаю, что я очень устала, но я как-то не так себя чувствую. Голова кружится. Знобит. Может, у меня температура?
– Очень жаль, – сказал ты официальным тоном. – Тогда отдохни. Я приготовлю ужин.
Я пристально посмотрела на тебя. Такая холодность была совершенно не в твоем характере! Я должна была преуменьшать свои недомогания, а ты – суетиться из-за них. Чтобы вынудить тебя хотя бы для галочки изобразить свою озабоченность, я взяла у тебя бутылочку и приложила твою руку к своему лбу.
– Теплый, – сказал ты, сразу убрав руку.
Боюсь, я не могла больше стоять; кожа болела везде, где ее касалось одеяло. Я, шатаясь, дошла до дивана, и голова моя теперь кружилась от только что сделанного открытия: ты злился на меня. Отцовство тебя не разочаровало – тебя разочаровала я. Ты думал, что женился на стойкой женщине. Вместо этого твоя жена стала проявлять черты нытика того самого капризного сорта, который она сама осуждала в среде недовольных перекормленных американцев, тех, для которых банальное усилие – когда ты трижды пропустил доставку от FedEx и теперь должен идти за ней на склад – представляет собой невыносимый «стресс» и является поводом для дорогостоящей психотерапии и корректировки фармацевтическими препаратами. Ты считал меня смутно ответственной даже за то, что Кевин отказывался сосать грудь. Я отказывала тебе в картине материнства: сладкая нега в постели воскресным утром, тост с маслом в руке, сын сосет грудь, жена раскраснелась, груди проливают свои щедрые дары на подушку, и ты вскакиваешь с кровати и бежишь за фотоаппаратом.
И вот я думала, что вплоть до настоящего момента блестяще скрывала свои истинные чувства по поводу материнства, вплоть до полного небрежения к себе: для того, чтобы в семейной жизни было много лжи, достаточно хранить молчание. Я удерживалась от того, чтобы словно трофей швырнуть на стол самоочевидный диагноз «послеродовая депрессия», и держала эту официальную формулировку при себе. При этом я брала домой горы редактур, но мне удалось просмотреть лишь несколько страниц. Я плохо ела, плохо спала и принимала душ в лучшем случае раз в три дня; я ни с кем не виделась и редко выходила из дома, потому что истерики Кевина были социально неприемлемы для пребывания на публике. И каждый день, сталкиваясь с бесконечно повторяющимися приступами его багровой ненасытной ярости, я повторяла про себя с тупым непониманием: Мне полагается это любить.
– Если ты не справляешься, у нас ведь нет недостатка в средствах.
Я лежала на диване, а ты возвышался надо мной, держа на руках своего сына. Ты был похож на один из тех мощных символов крестьянской преданности семье и родине, которые изображали в советских настенных росписях.
– Мы могли бы нанять помощницу.
– Ой, забыла тебе сказать, – с трудом пробормотала я, – у меня была конференц-связь с офисом. Мы исследуем спрос на издание об Африке. «Африка на Крыльях Надежды». Я подумала, это звучит неплохо.
– Я не имел в виду, – ты наклонился, и твой голос тяжело и жарко отдавался у меня в ушах, – что кто-то другой будет воспитывать нашего сына, пока ты ищешь питонов в бельгийском Конго.
– В Заире, – поправила я.
– Мы в одной лодке, Ева.
– Тогда почему ты всегда принимаешь его сторону?
– Ему семь недель от роду! Он слишком мал, чтобы у него была какая-то сторона!
Я рывком встала. Ты, наверное, подумал, что я готова расплакаться, но мои глаза слезились сами по себе. Когда я неуклюже добралась до ванной, это было не столько для того, чтобы взять термометр, сколько для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что ты не додумался принести мне его сам. Когда я вернулась с градусником, торчащим изо рта, мне показалось, или ты снова закатил глаза?
Я посмотрела на ртутный столбик в свете лампы.
– На, посмотри. У меня все как-то расплывается перед глазами.
Ты рассеянно поднял градусник повыше к свету.
– Ева, ты это специально сделала: поднесла его к лампе или еще что.
Ты потряс градусник, сунул его мне в рот и пошел менять Кевину подгузник.
Я прошаркала к пеленальному столику и снова предложила тебе посмотреть. Ты посмотрел на шкалу и пронзил меня недобрым взглядом.
– Ева, это не смешно.
– О чем ты?
На этот раз я и правда готова была заплакать.
– Ты греешь термометр. Это грязная шутка.
– Я не грею термометр. Я просто подержала его кончик во рту…
– Чушь, Ева, он показывает почти 40 °С!
– Ох.
Ты посмотрел на меня. Ты посмотрел на Кевина, в кои-то веки разрываясь между преданностью нам обоим. Ты торопливо взял его с пеленального столика и уложил в кроватку с такой небрежностью, что он забыл о своем строгом театральном графике и выдал фирменный дневной вопль под названием «я ненавижу весь мир». С мужеством, которое меня всегда в тебе восхищало, ты его проигнорировал.
– Прости меня! – Одним движением ты поднял меня с пола и положил обратно на диван. – Ты и впрямь заболела. Надо позвонить Райнштейн, отвезти тебя в больницу…
Меня клонило в сон, я совсем ослабела. Но я точно помню, как думала, что от меня требуют слишком многого. Интересно, был бы у меня прохладный компресс на лбу, вода со льдом, три таблетки аспирина под рукой и доктор Райнштейн по телефону, если бы термометр показал всего 38,3 °С.
Ева
Дорогой Франклин,
я нахожусь в некотором замешательстве, потому что мне только что позвонили по телефону, и я понятия не имею, откуда этот Джек Марлин добыл мой номер, не внесенный ни в один справочник. Он утверждал, что снимает документальные фильмы для NBC. Мне кажется, что курьезное рабочее название его проекта – «Внеклассная деятельность» – выглядит вполне подлинным, и он, по крайней мере, быстро дал понять, что не имеет отношения к фильму «Боль в старшей школе Гладстона» – этому шоу, второпях снятому телеканалом Fox. Джайлс говорил мне, что оно по большей части состояло из слез на камеру и церковных молебнов. И все же я спросила Марлина, с чего он решил, что я захочу поучаствовать еще в одном сенсационном анализе того дня, когда моя жизнь, как я ее понимала, закончилась. Он сказал, что я, возможно, захочу рассказать, как это выглядело «с моей стороны».
– И что же это за сторона?
Я ведь официально заявила, что предполагаю наличие противостояния в семье, когда Кевину было семь недель от роду.
– Например, не был ли ваш сын жертвой сексуального насилия? – сделал маневр Марлин.
– Жертвой? Мы точно говорим об одном и том же мальчике?
– А что с прозаком [89]? – Сочувствующее мурлыканье в его голосе могло быть лишь насмешкой. – Это ведь линия защиты на суде, и довольно хорошо обоснованная.
– Это была идея его адвоката, – еле выговорила я.
– Ну а в целом – может быть, вы считаете, что Кевина недопонимали?
Прости, Франклин, я знаю, что мне стоило повесить трубку, но я так мало общаюсь с людьми за пределами офиса… Что я сказала? Что-то вроде «Боюсь, что я понимаю своего сына слишком хорошо». А еще я сказала: «Если на то пошло, то Кевин,