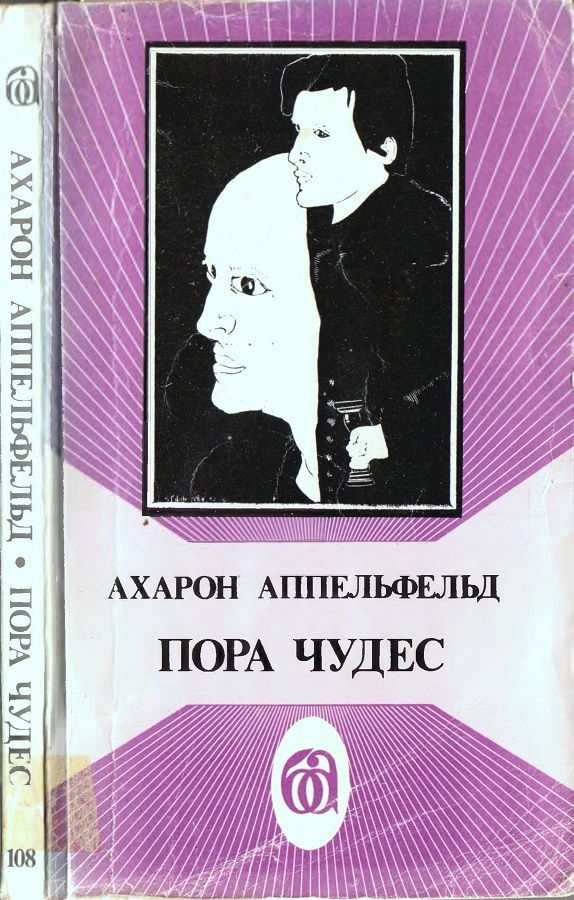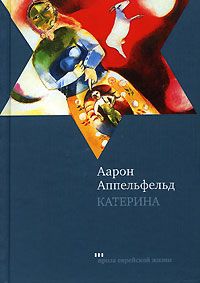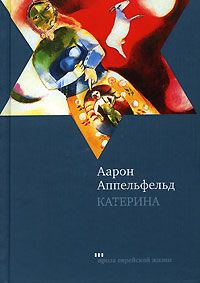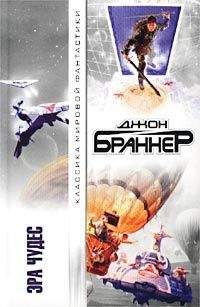позвонил.
Всему свой черед, гласил ответ телефонистки. Просьба у нее записана. Свяжется, когда получит ответ. Такие ее слова все еще заключали в себе некоторую надежду, некоторое обещание, да и сторож сохранял вежливость и угостил нас сушеными фруктами. Над поместьем низко плыло холодноватое, но приятное осеннее солнце, и влажный запах приводил на ум выбеленные комнаты, печь, в которой гудит огонь, и теплые молочные кушанья.
Утро миновало, дымка на полях растаяла, затем и полдень прошел, а ответа не было. Новую просьбу к сторожу позвонить телефонистке теперь пришлось уже подкрепить плиткой швейцарского шоколада. Ответ телефонистки был недвусмысленный: просят не беспокоить больше по этому вопросу. Когда придет ответ, тогда и свяжутся. Сторож рассыпался в извинениях и обещал впредь поступать строго по инструкции.
Лицо сторожа бросило в краску. Отец собрал остатки гордости.
— Не стану дожидаться до бесконечности. Дружба не бывает односторонней. Не буду задерживаться. Человек не пресмыкающееся. Не обессудьте, что затруднили, — обратился он к сторожу с каким-то странным рыцарским великодушием. Но тот не ответил, побоявшись новых осложнений.
Мама ни слова не выговорила. Мы шли теперь в направлении станции, увлекаемые быстрым шагом отца. Кроме нас, ни единой души не было на всем этом возделанном горном пространстве. Хотя происходившее было до боли реальным, мне казалось, что все это дурной сон, и эта монотонная ходьба — от того же тяжкого сна, сковавшего нас.
Когда мы пришли на станцию, солнце уже догорало на черепичной кровле. Пальто отца было забрызгано грязью, в лице одержимость: ”Мы едем отсюда первым же поездом”, — заявил он, точно у него был какой-нибудь выбор.
Странным было поруганное достоинство отца на этом крошечном полустанке; ни людей, ни сторожа. Один за другим проходили, не останавливаясь, роскошные скорые поезда, прошел один товарный и тоже не остановился. И, когда стемнело и появился сторож, отец набросился на него, словно это был не караульщик, а главный железнодорожный диспетчер. Худой этот человек улыбнулся, извинился и объяснил, что он тут всего-навсего сторож. Если до девяти наше терпение не лопнет, поезд довезет нас до самого до дому. Отец ублаготворился, и к нему вернулось спокойствие.
— Откуда будете? — на крестьянский лад спросил сторож.
— Были с визитом в поместье Даубера.
Сторож обходился с нами вежливо, да и вспышку простил, не обиделся, отчего отец преподнес ему плитку шоколада, а сторож со своей стороны рассказал, что вот уже много дней, как никто носа не кажет на этот полустанок. От села до полустанка далеко. А поместье Даубера имеет свои грузовики. Мама попросила воды, и сторож принес воду в старом кувшине. Он поблагодарил за шоколад и принялся изливать досаду на новые порядки, на то, что деньги упали в цене и девки себя больше не соблюдают. В городе, видно, подуло смутой и беспокойством. К отцу вернулась способность спокойно слушать. Когда он спросил, не найдется ли у сторожа чашки кофе, тот извинился и сказал, что прежде у него тут был стол и кофейный сервиз, и он всех и каждого приглашал на угощение. Видно было, что врет, но отец и виду не подал, так обрадовался его болтовне: свидетельство, что сторож все еще принял его за господина.
В девять пришел поезд. Сторож отнес чемодан в вагон. Отец попрощался с ним, как прощаются с верным слугой.
Поезд помчался в глубь, в потемки. На скамейках по углам лежали усталые пассажиры, зарывшиеся в свои пальто. С округлого потолка тек приглушенный свет. На отца напала грусть, и его лицо подернулось новой мозаикой теней. Внезапно я понял: эта ночь нас не отпустит от себя целыми и невредимыми.
Женщина, сидевшая рядом с нами, спросила, далеко ли мы находимся от Кноспена. Отец оторвался от своей меланхолии. Как если б проснулся от прикосновения нежной руки.
— Нет, недалеко, мадам, недалеко…
Это была молодая женщина. В ночном свете ее лицо было довольно миловидным. Она спросила отца, знакома ли ему дорога, и отец, очнувшийся от своей тоски, рассказал в подробностях и с какой-то скороспелой симпатией о местах, мимо которых мы проезжали. О местечках, где славное вино. И отличное жаркое. И настоящая сельская атмосфера.
Женщина сделала кокетливую ужимку и засмеялась, словно с ней делились не общеизвестными фактами, а маленькими секретами приятно-игривого содержания. И, когда отец открыл ей, что он — писатель Ф. А., она рот разинула и схватила его за руку: не может быть! Она читала книги отца, оказывается, и рецензии читала, и даже знакома с известным очерком Стефана Цвейга об отце.
— Теперь они меня поносят, — промолвил отец небрежно.
— Еще пожалеют, — сказала она.
Отец высвободился из всего, что его вязало. Хохотал и рассказывал разные случаи. Рассказывал про Стефана Цвейга, про Вассермана и Шницлера, про венскую братию и про братию пражскую и про писателя, которому уготовано великое будущее, — про Франца Кафку. На отца нашел припадок словоизвержения. Казалось, мы только для того и ездили, чтобы встретить эту женщину и чтобы она подарила ему немного женского восхищения. Про нас с мамой он словно забыл; и по мере того, как усиливалась вагонная качка, я все отчетливей ощущал, что его симпатии к этой женщине растут и крепнут.
О поместье Даубера он ей не рассказал. Упомянул только, что ему не терпится дописать несколько глав своей новой книги. Голосу он пытался придать небрежный тон преуспевающего человека. Писатель, заметил он, порой нуждается в анонимной встрече, анонимной аудитории, а ночь иногда подстраивает поучительные рандеву.
Неподвижное лицо мамы очнулось, и она со стороны наблюдала за отцом, словно это был не ее муж, а чужой мужчина, пытающийся понравиться женщине.
Остаток пути мы проделали в молчании. Отец задремал. Его усталое лицо на спинке скамьи выражало странное блаженство, как лица пьяных. Только левая рука, печально мотавшаяся в такт качке, жила отдельно от его расслабленного тела.
Дорогу со станции домой мы проделали пешком. Лицо отца было воодушевленное, он шел большими шагами, как на редакционное заседание в свое время. Я чувствовал: мы теперь были его увеличенные, тяжеловесные отростки. Без нас ему было легче. И, когда мы вернулись домой, между нами залегла неловкость. Отец сразу принялся разуваться, произнося при этом следующие фразы:
— Даубер еще пожалеет. Не прощу ему никогда. Есть еще люди, которые меня ценят. — Позор теперь обернулся у него проворно-невнятной деловитостью.
И когда рассвело, по комнатам повеяло новой отчужденностью, которую мы привезли из наших странствий: отчужденностью белой, страдальческой и