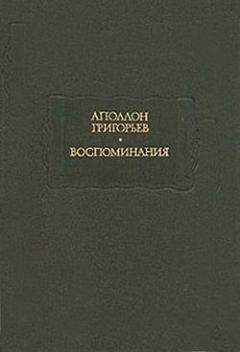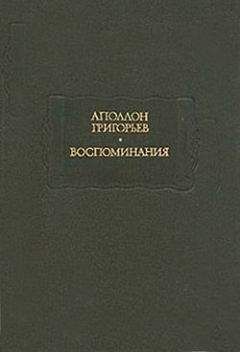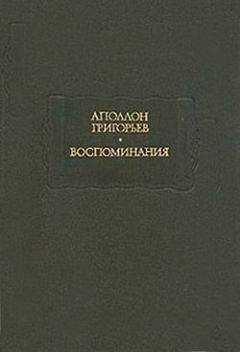XXXIV
Достал наконец денег – последние, кажется, какие можно достать – и послал при письме «La dernière Aldini» и «Histoire de Napoléon»[41]… Долги растут, растут и растут… На все это я смотрю с беспечностию фаталиста.
Нынче она прислала за мною Валентина[42]… Я люблю его, как брата, этого ребенка; его голос так сходен с ее резки-ребяческим голосом. Странно! Кавелин говорил, что это в ней одно, что делает ее женщиною du tiers ètat;[43] а мне так нравится этот голос…
Она больна… Она почти сердилась на меня за мои богохульства, за мою хандру, за мои рассказы о явлении иконы Толгской божией матери…[44]
«Вы хотите от жизни бог знает чего?» – говорила она мне. Это правда. И если результатом всех этих безумных требований будет судьба чиновника?…
Мать ее говорит мне, что я установлюсь. Едва ли!
Приехали Кр‹ылов›ы и с ними какая-то дама, с которою они все засели в преферанс. Я сидел на диване у стены, Лидия подле меня раскладывала карты, а Юлия[45] рассказывала мне какой-то вздор. Но мне было как-то wohl behaglich.[46]
Она подошла и села против меня на стуле. Мы молчали долго – и я глядел на нее спокойно, тихо, не опуская глаз; я забылся, мне хотелось верить, что она меня любит, мне казалось в эту минуту, что я вижу перед собою прежнюю – добрую, доверчивую Нину, Нину за год до этого: мне припоминались первые мечты моей любви к ней, тихие, святые мечты, – благородные надежды пройти с ней путь жизни… Я снова, казалось, стоял перед иконостасом Донского монастыря и думал о будущем, и думал о том, что когда-нибудь я отвечу божественному: «Се аз и чадо, его же дал ми еси»… То было то же чувство, которое майскою луною светило на меня, когда, рука об руку с нею пробегая аллеи их сада, я замечал отражение наших теней на старой стене – и был так рад, так гордо рад, что моя тень была выше…
Нина заговорила первая, и заговорила о смерти. Она боится ее – и хотела бы верить в бессмертие… Но мой мистический бред о бессмертии едва ли в состоянии кого-нибудь ободрить и уверить… «А вы, неужели вы в самом деле не боитесь умереть?» – спросила она меня задумчиво и не подымая своих голубых глаз с резного стола, по которому чертила пальцем. Я отвечал ей – что «боюсь медленной смерти – но умереть вдруг готов хоть сейчас»… Мы замолчали снова; изредка только, почти невольно из меня вырывались темные, странно-мистические мечты о будущей жизни.
Я ушел в 11 часов.
Опять хотелось мне рыдать и молиться; еще больше хотел бы я упасть у ее ног и с глубокою, бессознательною любовью смотреть на фосфор ее глаз, на бледную, прозрачную руку…
Вопрос – чем кончатся мои дела по службе и мои долги?… Нельзя же вечно обманывать других и себя.
Нынче был Кав‹елин›… Опять о бессмертии и об ней. Он говорит прямо, что если обеспечит свою будущность, то непременно женится на ней… «Наш взгляд на семейную жизнь одинаков, – продолжал он, – на другой день брака я буду точно таков же, каков я теперь; жена моя будет свободна вполне»… А я – я знаю, что я бы измучил ее любовью и ревностью…
Я и она осуждены равно[47]… Я и она – сумеем найти бесконечное страдание в том, что другие зовут блаженством.
У Н. И. был нынче какой-то господин, которого физиономия мне очень не нравится; он – что-то вроде откупщика и пахнет откупами и нравственностью.
Целый вечер я и Софья Кум‹анин›а занимались бласфемиями.[48]
Потом мы ходили с Лидией, она выпытывала от меня тайну моей хандры – а выпытывать, право, нечего; я даже не стараюсь и таиться. Да и она, кажется, только для эффекту выпытывает. Читая строфу «Сказки для детей», она сделала такое ударение над именем Нины, что сомневаться в ее догадливости совершенно невозможно.
– Послушайте, – говорил я, садясь подле нее в зале у окна, – когда встретишь такую женщину, то отдашь ей всю жизнь, всю душу, все назначение, отвергнешь всякую цель, потому что всякую цель станешь считать богохулением… – Я говорил святую правду.
– Да вы не найдете такой женщины.
– А если?…
– Вы обманетесь. Ecoutez moi, vous êtes le comte Albert… Et Consuèlo[49]…, – она не договорила, но лукаво засмеялась. «Consuèlo, Consuèlo, Consuèlo di mi alma»,[50] – отвечал я с безумным порывом.
– О чем вы так горячо рассуждаете? – спросила меня с улыбкою добрая Любовь Ф‹едоровн›а, которая сидела у рояля с Софьей Кум‹анино›й.
– О «Сказке для детей», – отвечал я с всевозможным спокойствием.
Сели ужинать. Разговор между мною и Софьей Кум‹анино›й склонился опять на то же. Я был в духе – и по поводу мысли о наказании в будущей жизни стал рассказывать, как мне вообразилось однажды, что ко мне входит der alte Zebaoth[51]… Яблочков отвернулся и плюнул, кажется… Я не остановился и продолжал ту же историю, – хотя предчувствовал, что это не пройдет даром.
И точно… Нынче в Совете Н. И., отведя меня в сторону, начал говорить мне, что «это именно и опасно и с одной стороны неприлично»… Я смолчал – здесь было не место объясняться. Он прав, может быть, но замечаниям пора положить конец.
Конец – но вместе с этим конец и всему. Будь воля рока – она влекла меня, она опутала меня сетями, которые можно только разрубить. Минута настала.
Написал письмо к Кр‹ылов›у, желчное и умное, но софистическое во всяком случае. Я знаю сам, что я не прав.
– Завтра я иду к Стр‹оганову›, – сказал я Фету.
– Зачем?
– Проситься в Сибирь.
Он не поверил.
Хочу молиться, в первый раз ‹за› этот год. Есть вечное Провидение – ж я хочу знать его волю.
Я оставлен самому себе… Вперед же, вперед…
Разговор с Стр‹огановым› был глуп – потому что я не хотел быть откровенен. Но дело идет. От него я поехал к An‹nett›e.[52] Она была поражена моим намерением – и между тем почти сквозь судорожный смех сказала мне: c'est pour la première foi que vous êtes homme.[53] Оба мы были спокойны и холодны, но я знаю, чего стоит ей это спокойствие. При прощанье я пожал ее руку, и мне – эгоисту было как-то отрадно это пожатие. К чему таиться? мне было весело, что эта душа вполне принадлежит мне, что она страдает моими страданиями.
Целый вечер мы говорили с Фетом… Он был расстроен до того, что все происшедшее казалось ему сном, хотя видел всю роковую неизбежность этого происшедшего.
– Черт тебя знает, что ты такое… Судьба, видимо, и явно хотела сделать из тебя что-то… Да недоделала, это я всегда подозревал, душа моя.
Мы говорили о прошедшем… Он был расстроен видимо…
Да – есть связи на жизнь и смерть. За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько, редких вечеров, когда мы оба бывали настроены одинаково, – я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь.
Ему хотелось скрыть от меня слезу – но я ее видел.
Мы квиты – мы равны. Я и он – мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга. Если я спас его для жизни и искусства – он спас меня еще более, для великой веры в душу человека.
О да! есть она, есть эта великая вера, наперекор попам и филистерам, наперекор духовному деспотизму и земной пошлости, наперекор гнусному догмату падения. Человек пал… но вы смеетесь, божественные титаны, великие богоборцы, вы смеетесь презрительно, вы гордо подымаете пораженное громами рока, но благородно-высокое чело, вы напрягаете могущественную грудь под клювом подлого раба Зевеса. Ибо знаете вы, что не воля Зевеса, но воля вечного, величаво спокойного рока судила вам бороться и страдать, как она судила Зевесу править недостойными рабами, как она судила беспредельному морю тщетно стремиться сокрушить ничтожные плотины земли. И рванулось же море когда-то, но поглотило оно землю своей беспредельностью, но без брата огня не могло оно уничтожить своего врага… Горы-боги скрыли этот огонь, – и потом, когда великий Титан низвел его на землю, приковали к скале великого Титана…
Боритесь же, боритесь, лучезарные, – и гордо отжените от себя надежду и награду.
В Сибирь нельзя будет уехать тайно. Только что пришел нынче в канцелярию военного генерал-губернатора, как встретил там одного знакомого моего отца, и вообще это требует предварительных сношений. Но разве это в силах остановить меня? Вздор! если нельзя в Сибирь через Москву, то можно через Петербург, взявши туда отпуск.
Что бы ни было – а минута развязки пришла. Глупо я сделал, что сказал о плане ехать в Сибирь Ч-у[54] и Назимову… Но все можно поправить. Надобно лгать, лгать и лгать.
«Да кой черт с вами делается? – сказал мне Хмельницкий. – Вы с ума сошли…».