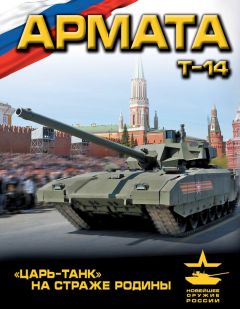- Вылазь, едрена вошь, шуруй домой, как балда от зайца.
А дядька еще и спрашивает:
- Шмолить в спину станешь? Луч-че так, в лобешник цельсь.
- Беги до овражка, а я на часы глядеть буду. Не добежишь, тогда... - и розовые пальцы милиционера притронулись к обшарпанной пистолетной кобуре.
Дядя Вася бежал по-стариковски потешно, хоть в кино снимай, вылитый Чарли Чаплин. Он откидывал в стороны ноги в рваных брезентовых тапочках. В общем, дядя Вася взял свою стометровку, а мотоцикл потянул плохо. Сержант думал о том, что его попрут из милиции, как миленького попрут, придется опять в кочегарку устраиваться.
Но когда он доехал до первого светофора, возле пивбара, к нему пришла хорошая мысль. Сейчас дома он возьмет удочки и наловит в Волчьей яме лещиков, потом отвезет эту рыбу к Сан Палычу, к своему начальнику. Скоро праздник. Может, и возьмет Сан Палыч лещиков? И обойдется? Начальник он заводной с виду, а так отходчивый. Мужик на сто восемьдесят, и жена у него веселая, в желтых кудряшках вся.
Солнечное затмение
- Это у вас учится слепой?
- У нас. Слепой музыкант. В моей комнате живет. Мы вместе.
В углу комнаты ровными штабелями сложены книги. Толстые тома с твердыми, почти картонными листами. На листах выколота вся мудрость. Метровая стопа книг и мой крохотный учебник истории - равнозначны. На табуреточке - баян, непременно прикрытый тряпицей. От пыли.
Слепой музыкант Белкин всегда был в деле. Чаще всего читал тонкими, вздрагивающими пальцами свои толстые фолианты. Или играл на своем перламутровом баяне. В самых выразительных местах он жевал губами, словно пробовал то, что играл, на вкус.
Он даже спал рационально, как и положено по медицине - на правом боку, положив ладонь под щеку.
Белкин утверждал, что если он будет соблюдать все правила, то никогда не попадет под трамвай и окончит исторический факультет. Зачем ему зубрить Светония? Зачем "Жизнь двенадцати цезарей"? И шахматные упражнения каждый день? И гантели? Я долго не решался на неловкий вопрос:
- Юра, а ты в полной темноте живешь?
- Не-а, свет вижу. Он в глазах переливается, то розовый, то багровый. Жалко, в детстве солнечного затмения не видел. А такое было желание до этого взрыва.
Мальчишкой Юра подорвался на мине, на Мамаевом. У студента Белкина лицо римлянина. Мощная шея, ионическая колонна, а не шея. Он красив, как бог или патриции, если бы не глаза. И крохотные оспинки, оставшиеся от взрыва. Кажется, он сейчас волнуется. Это можно понять по ноздрям. Только они напряжены.
- А ты можешь меня сегодня проводить?
- Сколько угодно,- морщусь я, ведь он не знает моего состояния.- к даме?
- Я хочу тебе показать. Оценишь. И расскажешь - какая. Она сама себя описывала. Но это не то.
Я немного злюсь на слепого. Он разбил мои планы. Вечером я собирался посидеть в "Керамике". В этом кафе самое вкусное мороженое с орехами. И там опять бы встретил ее, шемаханскую царицу: узкие, презрительные глаза, смоляные, как пишут в книгах, гладкие волосы. Только полюбоваться. Другого не дано. Не надо.
Вместо этого мы тащимся на трамвае, затем на автобусе, у которого двери обдают вслед выпрыгивающими клубами пыли, потом пешком по подворотням. Пахнет пылью, облупившейся от сырости штукатуркой и немного молочаем, деревенской травой.
Ее зовут Верой. И это имя - единственное, что ее хоть как-то скрашивает. Она лет на пять старше Белкина. Кто-то хорошо наперчил веснушками ее лицо. Не буду святотатствовать, но родители, видно, долго выбирали, кого же сотворить - хотели мальчика, а в самый последний момент передумали.
Вера Ильинична меня сразу застеснялась. Мы пили слишком сладкий чай на кухне. И она, уже придя в себя, взахлеб рассказывала о своем швейном ателье, о какой-то бабушке Насте, которая бросает в банку с малиной еще и аспирин, чтобы долго варенье сохранилось. Но потом умолкла, лицо у нее покраснело. И я понял, что я здесь лишний. Вера Ильинична постелила мне в узеньком коридоре-прихожей на старом диване. "Хорошо, хоть он не пахнет детской мочой",- подумал я, когда улегся. И долго не мог уснуть. В голове - компот, все перепуталось: я чувствовал рядом, в нескольких метрах от себя, их жалкое счастье. Ведь она больше никому не нужна - страшилка эдакая. Да, да, кутаясь в тряпье, в какие-то старческие жакетки, я понял, что жизнь крутит нами, как хочет, и сколько бы мы ни пытались ее обдурить - все равно она разыщет, добьет или, наоборот, расцелует, осыплет золотом. А чаще оставит так, в скуке и пыли, в душном обмане.
Утром в трамвае еще холодно. Сиденья обрызганы водой. Мы стояли. Я держал ответ, какая она.
- Золотые глаза, медовый взгляд. А волосы, а волосы! Восточная царица, полное солнечное затмение!
- Врешь! - перебил меня с дрожью в голосе Белкин.- Врешь, подлец!
Он глядел в темное, словно закопченное, стекло. Пальцы у него вздрагивали.