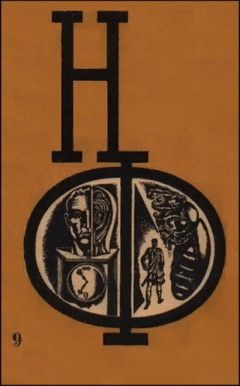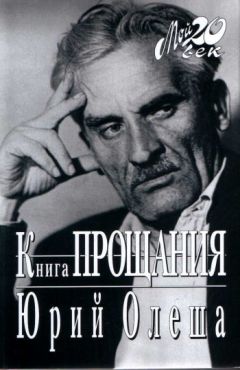Вакуум после разгрома концепции быстро заполнился продуктами термидорианского распада.
История всех революций и особенно XX века с очевидностью убеждает в том, что в каждой революции - всегда две революции: февральская и октябрьская.
Начинают возводиться изваяния Гуманизма.
Убитый царевич через 25 лет снова воскресает и его снова убивают.
Потом что-то случается, изваяния Гуманизма заменяются новыми (в том же исполнении) и потом дальновидные люди начинают понимать, что новой эпохи не было. Было лишь несколько дней замешательства и серьезных ошибок. Все это было решено не в один день, а имело давнюю традицию, начатую после поражения декабризма. Тогда возникло мнение, что смены эпох иллюзорны, что история страны, приговоренной и приученной к тирании своей географией, метеорологией, народным характером и печальным опытом, может менять лишь обличил деспотизма. В связи с тем, что при смене эпох решительно меняются слова1, то естественно, что эту смену замечали только языковеды. Все же остальные не замечали ничего.
1Лафарг. Язык революции. Французский до и после революции. Очерки происхождения современной буржуазии. М.-Л., 1930.
В разных формулах и с несходных позиций литература 20-х годов решала два важнейших вопроса общественной истории России: взаимоотношения человека и революции и взаимоотноше-ния человека и возникшего в результате революции государства.
Книги Юрия Олеши - его удачи и падения - движутся, как время, как история, как хроника десятилетий.
Две темы - интеллигенция и революция и интеллигенция и возникшее после революции государство - определили судьбу Юрия Олеши.
Судьба писателя была не только определена, но и ограничена его темами.
Юрий Олеша был прижат к стене не чрезвычайной творческой требовательностью, не тремястами вариантов первой страницы "Зависти", а темами, из которых выбиться он не мог.
Литературный путь писателя был труден и короток, потому что лишь эти темы безраздельно владели им, и, когда они исчерпали свое общественное значение, Юрий Олеша пытался продолжить их в литературе. Но время исчерпало тему раньше писателя.
Оно было занято поголовьем скота.
Человек, ставший писать в эпоху, когда предполагалось, что начнут сбываться самые важные и начали сбываться самые трагичные предчувствия, с большим количеством превосходных метафор рассказал о порывах и переживаниях большого отряда творческой интеллигенции.
Затем наступили долгие годы, которые в литературе об Олеше называются таинственно и тревожно: "годы молчания".
Четверть века писатель старался заменить в своем творчестве проблему взаимоотношений интеллигенции с революцией и государством некоторыми вопросами спорта (преимущественно легкой атлетикой).
В конце пути поиск темы сменяется поиском жанра. Исчерпанная тема лишь прикасалась ко времени, соскальзывала, топталась на письменном столе писателя, не выходила из комнаты. Нового жанра не было. Была попытка по-другому продолжить старую работу. Новым жанром стала именоваться публикация ежедневной писательской работы - записная книжка.
Утратив возможность писать законченные вещи, Олеша печатает незаконченные. Он возвра-щается к заготовкам, к тому, с чего начинается всякая писательская работа, - к записной книжке.
Решающее отличие ранних книг Юрия Олеши от последней, его романов, рассказов и пьес от собрания записей не в том, что роман лучше заметок, но в том, что его романы, рассказы и пьесы, как все его другие композиционно законченные произведения, воссоздают цельное представление о жизни, концепции, а его записи - обрывки, остатки испуганно разбегающихся в стороны разных концепций.
Книги Юрия Олеши точны, как макеты нашей истории: чуткий писатель всегда делал то, что требовало от него время.
В своих произведениях он воссоздал отдельные сцены из нашей истории. Главной темой этих сцен были взаимоотношения интеллигенции и революции и интеллигенции и послереволюционно-го государства.
Опустив второстепенное и уменьшив, книги Юрия Олеши, как куски географической карты, повторили горы и пропасти своего века. Он воспроизвел большие и важные куски карты. Он был характернейшим писателем эпохи, и ему удалось многое: показать отрывки десятилетий, краешек века, несколько квадратных метров человеческого бытия.
Писатель был частицей своего времени, был рожден им, горячо любил его, был его учеником и наследником и вписал свою строчку в его историю.
Он был постоянно меняющимся малым подобием и воспроизведением времени.
Время просвечивает сквозь художника.
Юрий Олеша всегда приобретал меняющуюся, переливающуюся окраску своего века.
Поэтому он шаг за шагом повторял путь литературы четырех десятилетий, и писал он хорошо и плохо, но всегда так, как писала литература этих десятилетий.
В человеческой истории существуют потоки литератур, а не разбросанные геологической сумятицей отдельные писатели-острова, плохо представляющие себе наличие других товарищей по перу и существование историко-литературного процесса. Писатель-остров практически не существует, и попытки понять такое явление связаны с непреодолимыми трудностями. Есть писатель в своей литературе и, какова литература, в которой он существует, таков и писатель. "Зависть" стала лучшей книгой Юрия Олеши не потому лишь, что в 1927 году писатель был талантлив и молод, а потом стал старше. Став старше, он написал "Народ строит свою столицу". Это произведение создавалось в другую литературную эпоху, обыкновенный же хороший писатель почти всегда бывает таким, какова литература, в которой он существует. Есть много причин, по которым одни книги оказываются лучше, другие хуже. Из многих причин, которыми это можно объяснить, серьезное значение имеют две: история, разрушающая человека, и сила его нравствен-ного сопротивления.
Юрий Олеша не был противопоставлен литературе и времени, в которые жил и работал. И если он писал иначе, чем Шолохов или Гладков, которых он горячо любил и гордился их почти дружеским отношением к себе, то это не значило, что он думает не о том и не так, как думают его современники. Непохожесть Олеши на Шолохова или Гладкова не выходила за пределы литерату-рной дискуссии. В дискуссии не было неразрешимых противоречий. В Гладкове Олешу огорчала некоторая примитивность. В Олеше Гладкова расстраивала излишняя усложненность.
Упаси Бог, никакого противопоставления личности (писателя) коллективу (читателям) не было. Недоразумения, которые раз или два возникали с критиками, были связаны с тем, что Олеша не вполне подходил для того места, которое эти критики ему отводили. (Так он думал. Он был чрезвычайно скромным, просто застенчивым человеком.) Он был хорош на своем месте. А от него требовали, чтобы он был хорош на чужом месте. Он старался быть хорошим и на чужом месте, но у него это не всегда получалось. Вот тогда и возникли некоторые недоразумения и даже трения, которых при более чутком отношении месткома, несомненно, можно было бы избежать. Ведь спор (если это можно назвать спором) никогда не выходил за пределы вопроса о том, какую музыкаль-ную партию поручить Юрию Олеше. Те критики, которые считали, что все должны играть на тромбоне, безусловно, ошибались. И Олеша пытался им это объяснить, но они не хотели его слушать и говорили: играй на тромбоне. Он, конечно, играл, но у него не было для этого данных. Впрочем, скоро выяснилось, что писатель просто недооценивал себя. Не дискуссионно, что наиболее подходящим для него инструментом являются флейта и виола, или что-нибудь другое, что окрашивает действительность нежными лирическими тонами. А ему говорили: все время играй на тромбоне. Это можно понять: современники ведь всегда хотят получить от своего искусства самое лучшее. От Юрия Олеши тоже не раз требовали большего, чем было в его силах. Но все это, безусловно, было только досадным недоразумением. В главном же вопросе - мелодии, - конечно, не было сомнений: мелодия Юрия Олеши никогда ничем не отличалась от той, которую наигрывала самая лучшая, и поэтому особенно ценимая партией и народом часть интеллигенции нашей эпохи.
И все-таки далеко не все единодушно одобряли мелодию Юрия Олеши.
Чьи-то особенно музыкальные уши кое-где улавливали некоторое отклонение от нот, по которым играл Юрий Олеша.
Это было чистейшей выдумкой.
Юрий Олеша всегда играл правильно.
Все это было нелегко.
Были потери, утраты. Было долгое, страшное отчаяние. Было оцепление, онемение, остановив-шиеся глаза. Были попытки писать хорошо, писать плохо. Ничего не помогало. Было разрушение жанра. Еще хуже: разрушение характера. Но легких уступок не было. Были уступки с переживани-ями. Вот это и было ошибкой. Переживания в период созидания мощного тракторного парка были совершенно неуместны. Нужно было уступать, не уступать - бежать, подпрыгивая, навстречу, переживая лишь, чтобы тебя не обогнали.