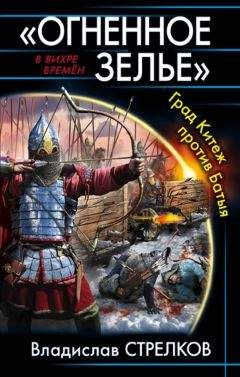наш сегодняшний день -
вершина страшного древа,
его последняя, уродливая ветвь:
в окружении хаоса,
непорочности и безопорности,
в колебании сфер.
Угроза падения
над каждой минутой и мил
лиметром.
И только абсолютный мрак,
тот, что чернее космической
бездны,
только он прочен,
он земной,
ощущаемый -
человеческая перегородка,
ощущение третьей границы.
Сентябрь, 1986. Вильнюс -
Минск -- Бобруйск.
x x x
Кончается январь. Внезапный дождь
неспешно лижет улицы Бобруйска.
Его безумный сгусток - ветер-вождь
качает телом деревце до хруста.
Кому не веришь - верить не стремись.
И я с утра, поправив одеяло,
иду назад, когда не в силах ввысь,
иду вперед или куда попало.
Себя мне мыслью в день не оторвать
от вязкой и набухшей этой почвы;
моя меня не поглотит кровать,
и не сорвать мне этой оболочки.
Не скроюсь я внутри тоски ночной.
Подъемный кран, каким окно поддето,
меня найдет и вытащит на злой,
шершавый сумрак утреннего света.
Не стоит заставлять себя рыгать
своим безверием - и скользким, и когтистым,
глазами поворачивать на "пять"
и каяться во всем, что не свершил я.
Не запереть в горчащий мох путей,
всего - как лед - не запереть в пустыне,
где солнце и жара, где среди дней
горячий пар в бескрайнем небе стынет.
Снег рыхл, как свет. Конфетами во рту
устало тает ледяная корка.
И всюду видишь только суету,
и смотришь слепо, слепо, хоть и зорко.
Бобруйский ветер длится целый год.
Век на исходе. Прошлое в расчете.
И отражает отдаленье свод
конца судьбы, конца в седьмой субботе.
1986 г. БОБРУЙСК
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
1
В квартире, где жила моя душа,
остались только стены. Стены, окна...
Все скомкано, все собрано в волокна,
и даже мысль немеет, не шурша.
Алеют пятисвечники распада,
звенят в квартирном слепке голоса.
И рдеют замороженно каскады
нелепости, безликой, как коса.
Нет, не отъезд маячит. Это смерть
стоит с полураскрытыми глазами,
встречая отъезжающих цветами,
как небо, черными, как эта круговерть.
Бумаги на полу-обрывки мыслей,
подвязки слез, разрезанных ножом,
и воздух этот гуще и слоистей,
как будто это ночью, а не днем.
Распотрашен я этой силой злой,
и силой т о й притянут, как магнитом,
к орбите расстояний, что, как сито
просеивает нужных ей сквозь зной.
В награду мне за то, что я сумел
осилить монстра голыми руками,
грозят изгнанием, которое - предел
и за которым все, что будет с нами.
И в окнах одиноких, без гардин,
стоит моя судьба перед ответом,
слепив из отражений половин
пустой зрачек с оставшимся в нем светом.
Апрель, 1991. БОБРУЙСК
2
Из странной и немыслимой страны
я взял с собой одни воспоминанья,
которые, как знаки препинанья,
мне навсегда, пожизненно даны.
Не я: какой-то сгусток смог живым
уйти из этой страшной, небывалой
империи, что таяла, как дым,
но в дым сама никак не превращалась.
Не знаю, есть ли то, что было "я",
и где теперь мое родное "эго",
но, если есть, то только там, где не был
три года тот, кто мной был по края.
Но нет меня. А есть скрижали дней,
в которых код, затертый под ладони,
и даже десять тысяч благовоний
не истребят его - угрозу для ноздрей.
И этот запах с детства был со мной:
предчувствий запах, запах разлоденья;
он выдавал меня, вскрывал мои движенья
и не давал мне слиться он с толпой.
И вот - теперь - стою я на земле,
хранящей декодированья свиток,
но веет смертью из глазниц попыток
прочтения того, что спит во мгле.
Как два конца нельзя соединить
нечеловеческой, холодно-жуткой сути
из двух вселенных, так и наложить
сей град на тот, куда мне не вернуться.
Но странствий звенья не завершены:
во снах моих и наяву мне снится
гостиница, фонарь и пол-луны,
и чья-то, в ночи спящая, столица.
Туда мне суждлено перенестись
поближе к Космосу, поближе к звездам синим,
где есть какой-то невесомый иней,
что может мне еще помочь спастись.
Но что за ним - то скрыто от меня,
хоть судьбы стран я знаю и народов,
и я прошу у света, у природы,
чтоб берегли меня, лелея и храня.
1993, ИЕРУСАЛИМ.
3
Все, что было тобой, достается червям,
достается распаду, зловонному тленью;
и ему предназначен не только ты сам,
но и мысли твои, и твое вдохновенье.
В оболочку судьбы никогда не упасть
воспаленным рассудком, забыв о грядущем.
И, как нищему этого не миновать,
так и тем, что богат, как никто из живущих.
Почему же так давит богач бедняка,
для чего уже продано все, без остатка:
все равно эта спесь, это зло лишь пока,
все равно вам от смерти не скрыться за взяткой...
Если там, за порогом, не воля твоя,
но, как сон, чьи-то тени и буквы мелькают,
так зачем чьи-то жизни, как гвозди вбивать
в то, что там, за порогом, душа не узнает?
Есть волшебная связь расстояний-времен,
есть непознанный смысл между жизнью и смертью;
он сквозит иногда со страниц и знамен,
он звучит иногда в обезглавленном сердце.
Есть два способа жить, есть два способа быть
в этом мире нелепостей: жить без остатка
или злом многокрасочным быть: то есть, жить,
попирая других, выпадая осадком...
Способ жить для тебя выбирает Судьба;
от рождения - быть подлецом иль героем,
но спокойствия в мир не несет их борьба,
хоть и жизни закон постигается с боем.
Как столетья у зданий смывают с лица
их глаза ( только остов стоит безучастно ),
так смывает тебя, обнажая Творца,
что стоит за тобой, но тебе не подвластный...
НОЯБРЬ, 1994, ИЕРУСАЛИМ - ЯНВАРЬ, 1995, МОНРЕАЛЬ.
ЕЩЕ НОЧЬ
Невидимая, скрытая мягкими изгибами ткани, темнотой очертаний, сливающаяся с фоном (действительно ли она существует? ).
Грузная и неподвижная, со спицами в угадываемых руках, она застыла глыбой в окне печали.
Позолоченные спицы отдельно от рук вяжут незримую связь обреченных на то же инстинктов.
Капли распада в глазах блестят слезами на черных веках.
И румяна слов крысиным пометом - отметины на ее лице.
А, если нет у нее лица, - истлевшие травы пучками сплетений, веками наметят контуры ее форм;
и только блеск спиц среди неподвижной черноты вуалей выдает движение нереальной жизни на игрушечных склонах гор с игрушечным серпантином.
Сентябрь, 1986. БОБРУЙСК.
ПРЕДМЕСТЬЕ
С Елисейских полей уезжая, спустившись под землю,
этот импульс кровавый под веки набухшие глаз
уходил, исчезая, но свет не стирая с подушек,
уходил, оставляя все то же в привычном строю.
" Так не может быть, так не бывает! "
- Но двоичность стоит очевидностью старых домов.
Блеск асфальта намокшего тускло ее отражает
под лучем пустоты обнаженного неба высот.
И зажат в кулаке тихий вскрик беззащитных предместий
за окном пусть чужим, но знакомым по тысячам снов,
и предчувствие - импульс, как жилка, пульсирует кровью
и реальностью смерти - как небо пульсирует днем.
ФЕВРАЛЬ, 1989. ПАРИЖ
COPYRIGHTS BY LEV GUNIN АВТОРСКИЕ ПРАВА ОСТАЮТСЯ ЗА ЛЬВОМ ГУНИНЫМ
ЭСТАМПЫ
ЛЕВ ГУНИН
Подражание Моисею Аксельроду
1
Оплыло сердце, как свеча под утро.
Из-под ребра не вылущены тени
страстей-стилетов. Радостно кому-то,
что в душах отпечатаны колени.
Да, мой палач: колено - это горло
терпения, что так неумолимо,
А в чьих-то душах застревают сверла
и пули пролетают только мимо.
И лезвие в зазубринах коснется
нежнейшей плоти шеи и колена,
и в счете этом кто-нибудь собьется,
и в кубках желтых часть тебя священна.
Моя душа - как тонкий детский мячик,
она подскочит - в уголок забьется,
но, если ей так не хватает вмятин,
то, значит, жизнь еще не повернется.
А в синих окнах белые матроны,
и день свой палец окунает в охру,
и в толстых лужах плавают балконы,
и кружева накидок черных мокнут...
ОКТЯБРЬ, 1983. БРЕСТ - БОБРУЙСК
СЧИТАЛКА
Рев самолета. День. Синей машины тень. Встали дорогой львы. Лица твердят: "Увы".
Есть на траве трава. В мареве красных два. Белый халат. Колпак. Рамка тебе не враг.
Серый приемник. Руль. Звуки речей, как нуль. Синий капот. И герб. Молот на нем и серп.
Падают вниз два льва. Снова "один" - трава. Глаз разряжен и пуст. Слышится кости хруст.
Ветер гранит стекло. В мире бессмертно зло. Слово как камень: "Есть! " В цифрах вам будет месть!..
Январь, 1986.
* из книги "СОПРЕДЕЛЬНОСТИ" *
МИССИЯ
моей жене Алле Сквозь дебри страха и чащобы зол я прорывался, становясь похожим на тех, кто в этих дебрях жизнь провел.
Моя пятнистой становилась кожа, и панцирь, весь зловонный, покрывал мне тело, для которого был - ложе.