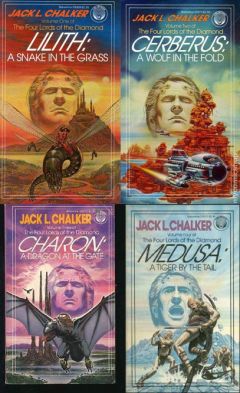Теперь Казакевич. У него была "Литературная Москва". Казакевич читал, хвалил, потом затрепетал: "Нет, не могу, не могу..." Но я попросил: "Эммануил Генрихович, золотой! Не говорите никому, что отвергаете роман! Возьмите сейчас под мышку рукопись и громко скажите, что вы идете с автором готовить рукопись к печати. И на два дня уедемте. Вино ставлю я". Так мы и сделали. Вино поставил он сам, и два дня мы пировали и рассказывали анекдоты. Конечно, кто-то сей же час донес Симонову. Это и было моей целью. Роман лежал у Симонова в "Новом мире" и даже хорошо читался, но было определенное колебание: резко против был Агапов.
Но тут роман пошел в набор. А потом начался читательский ажиотаж, обсуждения в Союзе писателей, у входа конная милиция, восторженное выступление Паустовского. И наши "ястребы". Пленум Союза писателей, на котором я впервые потерял сознание. В обморок упал в зале. И было с чего: там были такие чудовищные крики, такие дикие обвинения... Выходит на трибуну Симонов: ну, думаю, заступится. А он произнес прокурорскую речь. И тогда все посчитали, что он меня предал. Интересно, что Казакевича, который отказался печатать. не ругали, не ругали и Храпченко. который устроил спектакль с редколлегией, а вот Симонова, который напечатал, -- ругали. Почему? Потому что Симонов совершил поступок, а от тех, кто совершает поступки, люди требуют, чтобы они шли до конца. Добродушные люди очень требовательны к другим. А я считаю, что Симонов выполнил свою задачу, ракета вынесла спутник на орбиту, ей осталось войти в плотные слои атмосферы -- и сгореть. А в те времена наша атмосфера была очень и очень плотной. Он и сгорел, его вскоре отправили в Ташкент на два года. Так что с позиции победы добра, даже ругая меня, он поступал правильно -- ведь тогда у него еще оставался журнал.
-- Но тогда ведь вы так не думами?
-- Не думал. Но тогда я сам еще не понимал сущности добра, я сам был еще не добр, а добродушен.
После всей этой истории, когда начался тяжелейший период в моей жизни, Симонов, который еще не уехал в Ташкент, не здоровался на людях, не подавал мне руки. Это было очень тягостно. Я подаю -- а он не подает. Но потом, отойдя в угол, он останавливался, оборачивался и -- мне подмигивал! Когда застрелился Фадеев. Симонов стоял у гроба в почетном карауле, а я с кучей писателей толокся возле и вдруг вижу. Симонов мне подмигивает. Лет через десять только мы стали с ним здороваться, и я услышал знакомое: "Ста'ик, как дела?" Именно Симонов подвел меня к пониманию вооруженного добра.
Все эти черные годы я жил поддержкой неизвестных читателей. Страна большая, и в ней оказалось много людей, разделяющих мои взгляды. Сколько раз, бывало, в критический момент вдруг жена говорит: "Убирала у тебя на столе, подняла картон -- а тут деньги!" Кто положил -- неизвестно. Ко мне приходили много разных людей.
-- Может, кто-то из коллег, писателей? Не подозреваете писателей в благотворительности?
-- Нет, не подозреваю. Писатели давали взаймы, когда я просил. А потом, если они умирали или разводились, то оставляли женам право взыскания. И уж жены взыскать не забывали. Один раз покойный Ваня Переверзев, артист, привел меня к себе, открыл диван, где у него глубоко, как в колодце, лежали пачки денег, и сказал: "Бери, сколько надо. Будут -- отдашь!" А вот незнакомые люди присылали мне анонимные переводы, сберкнижки на предъявителя. Или, помню, как-то перед Новым годом, когда в доме вообще ничего не было, пришел посыльный из гастронома и втащил огромный, роскошный заказ. Чего там только не было! Это явно был дар анонимного большого начальства.
-- До сих пор помните?
-- Разве я могу об этом забыть? Я на всю жизнь благодарен этим неизвестным людям; они поддержали мой дух. Так что мне не на что жаловаться. Но это с разных сторон проявляло себя добродушие. Добро же проявилось в лице гонимых представителей биологической науки. Они не только не скатывались на позиции Лысенко, испытывая материальные трудности почти такие же, как и я, но и продолжали бороться против него, обдумывали, что делать. И они увидели во мне союзника. Начали приходить, дружить. У них я начал проходить биологическую науку, и они охотно помогали мне. Это были такие люди! Сейчас я подумал, что жизнь добра, как правило, сопряжена с судьбой какого-то очень важного для общества дела. Тут всегда присутствуют интересы общества. А люди добродушные интересами общества не горят, они любят попить чаек, посудачить, они не отказывают себе в покупке модных вещей, в посещении нашумевших фильмов. Вроде бы они живут полной жизнью, но что это за полнота! Это суррогат полноты.
-- Но раз есть интересы общества, значит, существует и проблема ответственности интеллигентного человека? В чем вы ее видите?
-- Я свою ответственность постоянно чувствую, когда во мне формируется новый замысел. Вот я написал два романа, которые, надеюсь, имели кое-какой общественный смысл. Моя ответственность -- в моей позиции. Она шла впереди обоих этих романов. В молодости я писал рассказы, но все они носили характер полулакировочный. Они все были созданы без нравственной нагрузки пишущей души, как и почти вся сталинская литература, отмеченная премиями и звездами. А вот когда я поездил по редакционным делам, когда столкнулся с подлинным страданием, тогда и произошла моя встреча с шестикрылым серафимом. Опыт жизни и практика произвели необходимый массаж, который вел к развитию души.
-- В течение долгих лет социально-политические условия нашей жизни не способствовали воспитанию нравственных качеств. Скорее наоборот. И сегодня мы с горечью говорим о дефиците чести, достоинства, жертвенности, сострадания. И надеемся, что позитивные перемены, переживаемые нашим государством, благотворно скажутся и на духовном здоровье общества, излечат его от равнодушия и разобщенности...
-- Позвольте, я внесу ясность. Эпоха сталинизма воспитала не только плохих, но и хороших людей. На формирующее воздействие общества можно ведь реагировать и со знаком плюс, и со знаком минус. Правда, то, что было при Сталине, нельзя рассматривать только как воспитание обществом: происходил физический отбор. Сталин и сталинисты собирали с молока пенки и отправляли их в лагеря. Все нравственное, все правильное и глубоко мыслящее было убрано, была произведена строгая селекция, не воспитание, а именно селекция, поколение за поколением уничтожались, и не надо полагать, что все люди искренне думали, что убивают врагов народа... Были, конечно, и такие, но что о них говорить. Иногда и сегодня читаешь в прессе письмо такого "верующего", который как поверил смолоду, так больше никакой иной мысленной работы уже не совершил. Какой с него спрос?! А вот мыслящие... Среди них и сегодня много тих, кто говорит: я сталинист! И знаете, почему говорит? Потому что это форма маскировки своей проявленной некогда подлости, аморальности. Он видит, как дела складываются, понимает, а покаяться не хочет! Он мог 6ы стать во весь рост и сказать: да, я делал то-то и то-то, я понял все, теперь я прошу прощения, я готов понести наказание! Такой поступок для всего общества стал бы величайшим актом прогресса. Но подлость на то и подлость, что эгоистична и амбициозна. Кроме того, многие из тех, кто получил при Сталине, а то и позже ордена и звезды, искренне считают, что они -- именно такие, кем значатся в формуле постановления о награждении: "За выдающиеся заслуги в деле литературы..." А раз так, то и тот, кто заметил и поощрил эти заслуги, тоже безупречен. Но ведь сам ход такой мысли безнравственен и требует маскировки! "Я не знал, что были аресты..." Знал! Но принимал, потому что для него этот вождь, эта группа сталинистов способствовала выполнению его личной, антиобщественной, антинравственной программы.
-- Но ведь и Симонов в дневниках пишет, что верил Сталину, что не подозревал о многом.
-- Знаете, я за Симонова в этом случае заступаться не буду. Вот я -- я слушал лекции Крыленко и аплодировал. А потом слушал, что он враг народа и расстрелян, -- и тоже аплодировал. Когда следователь в НКВД бил меня, юриста-школяра, ребром ладони по носу, я делал ему замечание, какую статью закона он нарушает. А он смеялся... Но мне тогда было 18 лет. Я занимался спортом, ухаживал за своей будущей женой, и, когда она спрашивала меня, кого я больше люблю, ее или Сталина, я возмущенно говорил: "Ну как ты можешь сравнивать несравнимые вещи? Прекрати, пожалуйста!" Но так, как я ответил ей тогда. в тридцать лет я бы уже ответить не мог. Я ужа многое понимал. Вот вы помните, я говорил о намагничивании? Намагничиваться может только ферромагнитный материал.. Дурак не может магнетизироваться. Интеллигентность -- качество общественное, и, видимо, судьба человеческой популяции состоит в том, чтобы в ней постепенно все большее и большее место занимали молекулы добра и серьезной мысли, стремящейся к истине. А для этого интеллигентность как качество должна сохраняться, культивироваться и передаваться. И в ней должны быть заинтересованы и общество, и власти. Пока же... Пока же бюрократия, которая, в сущности, управляет обществом, не солидарна ни с кем: ни с рабочими, ни с крестьянами, им с интеллигенцией.