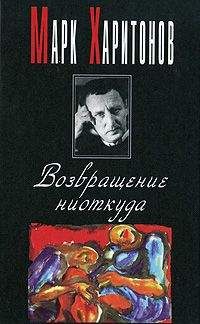Что до денег, то к приезду жениха дедушка одолжил сто золотых пятирублевок у богатого соседа на два часа. Мать жениха первым же делом вспомнила о деньгах, потребовала показать. "Ты что, мне не веришь? - с достоинством спросил дед. - Голда, принеси". Бабушка принесла деньги, небрежно высыпала в большую тарелку. Женщины стали считать. Считали долго. До десяти они знали твердо, но дальше сбивались, приходилось пересчитывать заново. А дедушка на них и не смотрит - как бы даже высокомерно. Наконец досчитали все-таки до ста. "Голда, унеси", - сказал дед бабушке. И та унесла деньги, только не в другую комнату, а прямо к соседу.
Между тем разбили, как положено, тарелку, скрепили договор - назад пути не было.
Когда сыграли свадьбу, мать жениха напомнила про деньги. "Откуда их у мен ня? - ответил дед. - Ты хотела посмотреть на такие деньги, я тебе их показал". Все-таки не зря он читал Библию, последователь Лавана, которому надо было пристроить не только красавицу Рахиль, но и старшую Лию.
Так и получил Миша Дору без копейки, но с хромотой. Однако всю жизнь она ему повторяла: "Что бы ты без меня делал? Ты пропал бы без меня". И убедила его в этом.
Из-за этой Доры, между прочим, я и родился в России. Перед первой мировой войной дед отвез старшего сына в Америку, а сам вернулся, чтобы перевезти остальную семью. Всех готовы были пустить, и только Доре иммиграционные власти отказали из-за ее хромоты в праве на въезд. А оставить ее одну дедушка не захотел. Это обстоятельство позволило моему отцу встретиться с мамой.
Про то, что у меня в Америке есть (или были) дядя и двоюродные братья или сестры, я узнал совсем недавно. В 20-е годы они еще писали, потом связь с ними стала опасна. Попытки папы разыскать их сейчас через Красный Крест оказались безуспешны. Какие у них теперь имена?
Так же недавно я узнал про другую семейную линию - детей дедушкиного брата, купца первой гильдии, которые переехали в столицу и стали крупными деятелями революции, впоследствии репрессированными. Я познакомился потом с одним, реабилитированным старым большевиком, даже одно лето жил на казенной даче, которую он нам устроил по своей линии. Но это не моя история.
С отцовской стороны у меня было семь дядей и тетей. Во всяком случае, стольких я знаю. Дядя Лева-фотограф, тетя Соня, Таня, Рая, Нюра (это московские), Геня из Ташкента, хромая Дора со станции Минутка под Кисловодском. Семеро. О восьмом, американском дяде я только слышал. Девятым ребенком был мой отец. А всего у бабушки с дедушкой было двенадцать детей. Трое умерли в детстве.
Большинство из них никакого образования не получили - но детям высшее образование дали почти все: почтение к образованности у нас в крови. От детских лет у меня много по тем временам фотографий. Объясняется это просто: сразу два папиных родственника работали фотографами. Дядя Лева-большой (муж папиной сестры) и дядя Лева-маленький (папин брат). Первый был фотограф умелый и богатый, второй едва сводил концы с концами и потом ушел продавцом в магазин. А женщины были по большей части домохозяйками, лишь когда прижимала нужда, кто-то устраивался на время работать.
Детство я провел среди них, хлопотливых, добрых, малообразованных, чадолюбивых, мастериц вкусно готовить. Они съезжались на семейные праздники, неумелыми голосами пробовали петь непонятные мне еврейские песни. Чем дальше, тем больше я удалялся от них. Я не сумел написать о них с тем родственным юмором, с каким написал Фазиль Искандер о своих простоватых и добрых родственниках. С возрастом усиливалось чувство, что у меня с ними мало общего.
И лишь недавно я стал думать: так ли мало? Может, эта доброта и хлопотливость, это желание вкусно накормить и умение вкусно приготовить, это чадолюбие, гостеприимство, эта семейственность наложили на мое подсознание отпечаток больший, чем сам я готов осознать?
Свое родство и скучное соседствоСвое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.Мы презирать заведомо вольны.
Это сказал О. Мандельштам, человек русской, европейской, эллинской, христианской культуры. Его заметки о еврейской родне, о "хаосе иудейском" отстраненны и ироничны. Но он же, противопоставляя себя вороватому "литературному племени", вспомнил свою кровь, "отягощенную наследством овцеводов, патриархов и царей". Что это за наследство? Реальна ли эта субстанция в крови?
Мне еще предстояло осознать и принять свое самочувствие и положение: самочувствие еврея и русского писателя.
1964-1987
Отступление на темы этноса
Согласно известной концепции, этническое самосознание, то есть безотчетное чувство противопоставленности себя другим, - вот что делает евреев евреями, американцев американцами. Единство происхождения, культуры, языка, государственности само по себе тут ничего не решает.
Об этой природной склонности и способности без усилия, помимо рассуждений предпочитать представителя своей группы, стаи, племени в противоположность прочим говорят не только этнологи, но и этологи - специалисты по поведению животных.
Ученые знают, что говорят. Кому не случалось ловить себя на невольном, порой постыдном сочувствии "своим"? - даже когда знаешь, что они неправы, что они причиняют страдания другим. Что нам чужие страдания, чужие жертвы?
Я шел мимо переулка у синагоги. Толпа собиралась на праздник. Я смотрел на лица людей, и многие казались мне прекрасными, особенно молодые. Мужчины с бородками шолом-алейхемовских и шагаловских персонажей, большеглазые женщины. Мне казались близкими их улыбки и голоса. Я даже не знал, как назывался этот праздник, - что мне было до него? Я русский писатель, я шел из Исторической библиотеки, где читал о русской истории, - и это была моя история. Что же значит эта нежность, какая память живет в сердце - или все-таки в крови?
Вдруг мне как-то пришло в голову: не так ли долгое время щемило и вздрагивало сердце, когда я слышал о проигрыше или выигрыше "Динамо" команды, за которую в детстве стал почему-то болеть? Совсем уж область иррационального - впору стыдиться. Я давно не хожу на футбол, уже и по телевизору почти не смотрю, слежу разве что по газетам, и игроков-то новых не знаю - что мне эта куча молодых, чуждых мне по всей сути? Но легло когда-то на сердце глупое слово, звук - и я за него болею, сам над собою смеясь. Психическая аномалия. Ум с сердцем не в ладу.
Нет, я, разумеется, понимаю, это похоже на ересь: нации - и вдруг такое снижение. Я ничего не утверждаю, просто размышляю вслух. Ведь разве какие-то критерии, какие-то ощущения тут не совпадают? Разве не дожили мы до времен, когда объединения футбольных болельщиков стали самоутверждаться вплоть до сражений с чужаками? У них свои вожди и свои идолы, свои традиции, знамена, символика, предания, фольклор.
Или разве не говорит, скажем, Солженицын об обитателях гулаговского архипелага как о туземцах, объединенных и уже обособленных своей судьбой, своей историей и психологией, памятью и языком?..
Так уж сложилось, что самой общезначимой и общеизвестной моделью этой темы во всем мире (по крайней мере, христианско-европейском) стала проблематика еврейская. Ее осмысливали особенно в нынешнем веке по-разному и с разных сторон. Все, что приходило мне когда-нибудь на ум по этому поводу, оказывалось кем-то уже пережито и продумано.
Самоощущение израильского уроженца, для которого чувство национальной принадлежности с пеленок естественно и беспроблемно.
Самоощущение человека, который стал ощущать себя евреем, лишь когда ему об этом напомнили - неприязнью, преследованиями, погромом, Освенцимом.
(И при этом ощущение несвободы, когда сами мысли на эту тему все-таки навязываются обстоятельствами, средой - вне личного выбора, вкуса, убеждений, а то и вопреки им.)
Сознательный выбор тех, кто объявил себя евреем из солидарности с преследуемыми и гибнущими.
Призыв пастернаковского героя к евреям освободиться наконец "от верности отжившему допотопному наименованию" и "бесследно раствориться среди остальных".
Еврейство не как национальное чувство, а скорей как ощущение напряженности с окружением. В этом смысле евреем можно быть только среди неевреев. Экзистенциальное измерение этой проблематики полнее других обобщил Кафка. Макс Брод волен толковать многих его персонажей как евреев, чувствующих себя чужаками среди других. Но ведь сам Кафка нигде в прозе не упоминает даже слова еврей. Стоит только это представить, чтобы ощутить, как все вдруг мельчает и становится частностью.
Зато эта тема естественно переплетается с темой избранничества, пусть даже невольного, нежеланного, как от рождения унаследованное клеймо, с темой личности и толпы, противостояния, которое вряд ли приносит счастье, но способно духовно возвысить, и с темой приспособленчества, когда тянет стать неотличимым от большинства.
"Гетто избранничеств", - сказала об этом Марина Цветаева. "В сем христианнейшем из миров поэты - жиды".