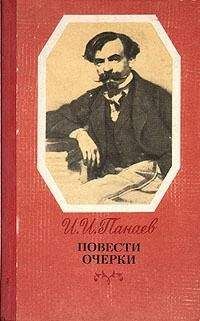Дверь отворилась и захлопнулась: все трое исчезли.
Иван Александрович неподвижно остался у двери.
Возвратись домой, он сделался еще скучнее и рассеяннее прежнего.
Это не могло ускользнуть от внимания Елизаветы Михайловны, и она, робко потупив головку, произнесла едва слышно:
— Вы не веселы, Иван Александрович?
— Еще нет десяти часов, — отвечал он, не слыша ее вопроса.
— Нет-с еще. А маменька спрашивала об вас. Потом через минуту молчания, с тою же робостию, так же тихо спросила:
— А вы принесли мне книжки, которые обещали, Иван Александрович?
— Книжки? Ах, да… да, — и он вынул из неизмеримого кармана своего сюртука две тоненькие книжечки, все истертые и засаленные, верно, из какой-нибудь "Библиотеки для чтения".
— Как я рада!
Елизавета Михайловна прыгнула от радости и исчезла.
"Он не забыл моей просьбы", — думала она… Далеко за полночь сидела она у окна своей комнатки с книгою в руках, и сон не тягчил ее век… и сердце замирало и билось.
Наконец она опустила книгу на колена, но уста ее еще повторяли эти очаровательные звуки, эти звуки, от которых билось и замирало ее сердце, которые мешали ей спать:
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга…
Ее развившиеся кудри упадали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздохов, дышала сильно и часто.
— Нет, он меня не любит, не любит! — и слезы начали проступать на ресницах бедной девушки, и отяжелевшая голова ее скатилась на оконницу и вся утонула в кудрях.
В эту минуту не спал и Иван Александрович: он, лежа на постели, мечтал о своей незнакомке, украшал ее поэтическими цветками своего воображения, сравнивал с Теклою Шиллера, с Маргаритою Гете, с Юлией Шекспира, с Татьяною Пушкина и бог знает с кем еще…
Он мечтал, как познакомится с нею, как в первый раз явится к ней…
Бедная Елизавета Михайловна! В этих роскошных мечтах он вовсе забыл о ее существовании.
На другое утро, подкладывая транспарант под форменную бумагу для переписки какого-то отношения, Иван Александрович искоса посматривал на своего столоначальника, потому что ему не хотелось ничего делать, решительно ничего, а вот так сидеть сложа руки да мечтать о вчерашней даме… Здесь кстати заметить, что он уже за две недели до этого определился в департамент, по протекции одного начальника отделения, Евграфа Матвеевича… как бишь его фамилия? Так на языке и вертится… Нет, забыл. Ну, да все равно… Евграф Матвеевич был задушевный приятель супруга тетушки Ивана Александровича и по просьбе ее поместил молодого человека до первого случая на четырехсотрублевую вакансию. …Так, Иван Александрович подложил транспарант под бумагу, очинил перо и уже нарисовал первую букву В, но в эту самую минуту кто-то схватил его за руку.
— А, мое почтение, Федор Егорович.
Федор Егорович был помощник столоначальника, молодой человек очень приятной наружности, с прекрасно всчесанным хохлом, при золотых, настоящих часах, а не то чтобы с серебряною дощечкой сзади, ловкий в обращении и вообще, как говорят,
"славный малый". Он был аристократом в своем отделении, потому что имел собственные дрожки и лошадь, вследствие чего иногда позволял себе маленькие вольности, как-то: приезжать четвертью часа позже обыкновенного, и пр. А это уже не шутка! Все мелкие чиновники смотрели на него с особенным почтением, некоторые с маленькою досадою и завистью.
Раз один из его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошел к нему и, указав пальцем на цепочку, которая красовалась на его жилете, спросил:
— А что, это семилёровая-с?
Федор Егорович посмотрел на вопрошающего очень гордо и нехотя отвечал:
— Золотая.
— Настоящая-с?
— Да.
— Изволите видеть. А что, я думаю, вещь-то ценная? Сколько заплатить изволили?
— Полтораста рублей.
— Гм.
При этом гм он вытащил из кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнул по крышке, повернул ее, со скрипом отворил табакерку и поднес к Федору Егоровичу. В табаке лежали три жасминные цветка.
— Не угодно ли? У меня бергамотовый-с.
Федор Егорович небрежно понюхал.
"Вишь, какой фертик, — подумал этот чиновник, — 150-рублевые цепочки изволит себе ежедневно носить!" После этого разговора Федор Егорович получил еще больший вес в своем отделении, а слухи о нем и богатстве его начали даже распространяться по всему департаменту.
Федор Егорович сошелся тотчас с Иваном Александровичем, узнав, что он кончил курс в университете; и не мудрено: он очень любил рассуждать о разных ученых предметах, это была его страсть. На вечерах и балах, в своем кругу, он слыл умницею, и даже очень солидные люди отзывались о нем с величайшею похвалою. Когда речь заходила об нем, они, по обыкновению нахмурив брови, произносили довольно протяжно:
"Фу! какая голова! что ни говорите, а он пойдет далеко!" В случае если между дамами возникал какой-нибудь литературный спор, то слабая сторона спорящих всегда почти посылала за ним: "Где Федор Егорович? Федор Егорович решит, он такой начитанный!" И Федор Егорович, являясь, торжественно решал спор.
Он-то подошел к Ивану Александровичу и взял его за руку, в ту самую минуту, когда тот призадумался над буквою В.
— Как поживаете, Иван Александрович? что новенького? А?
— Вам лучше знать новости, Федор Егорович, вы в свете. При этом Федор Егорович, очень довольный, улыбнулся.
— Да, оно конечно; но все это так надоело! Ну, что такое свет, ровно ничего, ейбогу! Нет, этак, главного — пищи для души, а остальное — пфф… Признаюсь, давно мне хочется заняться чем-нибудь существенным, литературою, например, написать чтонибудь: все-таки составишь себе имя, ознакомишься со всеми учеными. К тому же я чувствую в себе способность сочинять. Вот если я увижу, например, цветок или чтонибудь такое, то у меня сейчас и воспламеняется воображение.
Произнося это, Федор Егорович поправил галстук и стал обдергивать свою черную атласную манишку со складочками, на которой светились три запонки из мнимых брильянтов.
— Послушайте, Федор Егорович, — сказал Иван Александрович после нескольких минут молчания, отводя своего нового приятеля в амбразуру окна, — мне хочется кое-что спросить у вас, вы в Петербурге всех знаете, вам должно быть это известно.
Иван Александрович говорил вполголоса и нарочно удалился от стола, испытав в короткое время, до какой степени некоторые из его товарищей одарены преступною страстию любопытства. Он знал, что для этих господ ничего не может быть приятнее, как подслушать чужой секретец.
Федор Егорович, заложив руки в боковые карманы, нахмурил брови и сделал легкое движение губами, в знак внимания.
Иван Александрович рассказал ему о своей встрече с дамою, о том, как он следовал за нею; описал ее кавалера, ее ливрею, всё до малейшей подробности.
Лицо Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Он уже поднял вверх брови.
Иван Александрович продолжал:
— Не доходя Покрова, она, знаете, и повернула налево, в Усачев переулок, я за нею; перейдя улицу, она остановилась у подъезда направо… кажется, четвертый дом от угла…
В эту минуту Федор Егорович схватил с величайшим восторгом руку своего приятеля и, в пылу самозабвения, закричал:
— Ну, так и есть… Она, она!
Надобно было посмотреть на физиогномию Ивана Александровича, пораженного таким нечаянным и таким скорым открытием.
— Может ли быть? так вы, вы ее знаете… знаете? Он ничего не мог произнесть более.
— Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вам сказать, что я у них на короткой ноге в доме; совершенно свой. Не был день, два, — так сейчас посол: что, дескать, давно не были? откушать просят… Знаком ли я?
— Да кто ж она такая, Федор Егорович?
— Известная в Петербурге дама, на всех балах бывает… И какая начитанная; я с ней всегда мазурку танцую.
— А как ее фамилия?
— Марья Владимировна Болотова.
"Какое прекрасное имя!" — подумал Иван Александрович.
— А что, она замужем?
— Нет; вот года четыре как овдовела.
У Ивана Александровича на лице выступила краска.
— Не хотите ли, я вас познакомлю с нею?
"Познакомлю!.. Неужели в самом деле?" — Иван Александрович ужасно как смешался.
— Что ж, хотите, Иван Александрович? Вы ведь еще не выезжали в свет, а тут вы с первого раза ознакомитесь со всем лучшим обществом. Хотите ль? правду сказать, свет придает этак человеку полировку. — И при этом слове Федор Егорович с самодовольною гримасою посмотрел на себя и начал небрежно вертеть цепочкой, на которой висел ключик от часов.
— Что, едем?
— Очень рад-с, — произнес Иван Александрович, очнувшись.
— Прекрасно! Когда же, послезавтра? У Марьи Владимировны по вторникам дни.