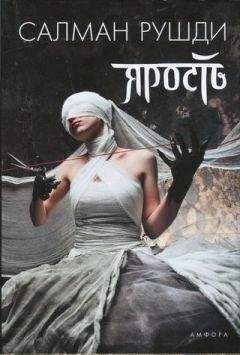Вильгельм улыбнулся:
– Вместо лекции о правах – лекция о запахах?
– Вы смеетесь? Вот об этом я хочу спросить – об этом вашем смехе. Мы, обыкновенные люди, не любим и боимся запаха свежей крови и запаха трупа. Но вы, император? Как он действует на вас? Слышите ли вы его и чем он кажется вам? Вот сейчас – пленный вдохнул воздух и поморщился, – вы слышите, как здесь пахнет, или нет? Ведь очень плохо!
– Да, воздух испорчен, – согласился император и также поморщился. – И нельзя открывать окна: оттуда пахнет еще хуже. Но вы спрашиваете, как отношусь я? Я стою выше этого запаха, понимаете? Выше! Почему запах трупа непривычен и слабонервным людям внушает страх и суеверные мысли? Потому только, что трупы принято хоронить, то есть все зависит от пустяков, обычая, известных навыков. Вы представляете, дорогой профессор, какой колоссальный запах поднялся бы от всех миллиардов умерших на земле, какая ужасающая вонь, какой смрад, если бы их не прятали так быстро в землю? Их прячут, и только от этого они не воняют.
– Сколько трупов вокруг нас. Ночь – и они лежат. Я как будто их вижу, – задумчиво сказал русский.
– А я их не вижу, и их завтра похоронят. Вы слыхали о моих моторных плугах, роющих могилы? Глупцы смеются над ними и ужасаются; им нужен традиционный шекспировский могильщик, который непременно руками рыл бы яму – и болтал глупости в это время, бездельник! Все это дешевый романтизм, сентиментальность старой глупой Европы, блудливой ханжи, выжившей из ума от старости и распутства. Я положу ей конец. Почему жечь трупы, обливая керосином, как делают ваши друзья французы, нравственнее и красивее, нежели класть их в чистую и глубокую колею, как зерна? Или вы так наивны, профессор, что еще захотите спросить меня о жалости: жалею ли я? Сознавайтесь!
– Да, хочу. Сегодня один из заложников, старик, плакал…
– Плакал?
– Да, плакал и умолял, чтобы его не убивали. Так, какой-то старик. Он ничего не понимал… вероятно, он никогда и не думал ни о какой войне. Мне было его жаль.
– Пфуй! Стыдитесь, профессор! Но его все-таки расстреляли, надеюсь?
– Да.
– Бравые солдаты! Молчите, я знаю вашу мысль: да, конечно, конечно, он был невиновен. Как может быть виновен какой-то ничтожный старикашка, никогда не думавший о войне, в том, что кто-то другой, какой-то молодец с темпераментом выстрелил в моего солдата? Но разве были виновны мученики при Траяне и разве виновны в вашем смысле мои солдаты, в которых вы сегодня стреляли? Почему же вы не плачете над мучениками? Плачьте!
Голос Вильгельма стал резким и раздраженным:
– Все гуманисты кричат мне о жалости. Жалость! Жалость! Это глупо, профессор, глупо! Почему я должен жалеть того, кто стал трупом сегодня, а того, кто стал трупом триста лет назад, жалеть не должен? Какая между ними разница? Черт возьми – за пять тысяч лет их столько мучилось, бегало, голодало, теряла детей, умирало, казнилось, убивалось на войне, сжигалось на кострах, что, если их всех жалеть… а какая разница? Разницы нет! Но вы – русский, впрочем; вы этого не понимаете. Русские лишены сознания; они живут эмоциями, как женщины и дети, у них много глаз, но ни одного ума. Их слезы дешевы и случайны. Они плачут над собакой, которую на их глазах задавил таксомотор, и спокойно курят при разговоре о смерти Христа! Вы не еврей?
– Нет.
– Поздравляю. Но что вы скажете о еврейских погромах в России? Гвоздь в голову, например, – а?
Пленный глубоко и серьезно взглянул в самые зрачки серых холодных глаз и молча опустил голову.
Пленный молчал, смотря на потухшую сигару, попробовал пальцем ее холодный конец. Канонада либо удалилась, либо смолкла, и в комнате было тихо, и как будто меньше пахло дымом и гарью. Вильгельм сурово смотрел на его голову: в ней чудилось ему какое-то упрямство, которого он еще не победил; и разорванные, грязные сапоги были неприличны, как у нищего. Русский!
– Возьмите новую. Вот сигары и спички. Курите, а то заснете. Хотите один бокал вина?
– Нет.
– Да, лучше не надо, – опьянеете. Вы слыхали, что у вас в России запрещено вино? Какие слабохарактерные люди! Они похожи на пьяницу, который дал зарок и боится даже уксуса; они могут не пьянствовать только тогда, когда на вино повесят замок. Но кончится война, которая их испугала, и они снова будут умирать от спирта, как эскимосы. Вам не следует пить.
Он с усмешкой отхлебнул из бокала. Русский молчал, и это несколько раздражало. Вильгельм снова усмехнулся и со стуком поставил бокал, так что пленный вздрогнул и посмотрел.
– За это вино я не заплатил и не заплачу ни пфеннига. Вам это также не нравится, господин профессор? Но это хорошо, что вы молчите. И хорошо, что вы о Христе не ответили. Что вы можете ответить? Что может ответить вся Европа? Я читаю ежедневно английские и французские газеты, и это смешно, – вы понимаете! – смешно до коликов в желудке. Ваших газет я не читаю, но, вероятно, то же, да? И, вероятно, также рисуют мои усы, да? И также рассуждают о гуманности и Красном Кресте и зовут меня пиратом и разбойником, а сами воруют на дровах, на хлебе и бумаге, на которой пишут? О да, конечно, также. Скажите: у вас в России есть дома терпимости? Есть! А они еще не закрыты? О нет, конечно, – это естественная потребность; вероятно, и Ной в ковчеге занимался тем же, говорят они, а это был потоп! Вам не кажется, господин профессор, что теперешняя Европа есть необыкновенное, небывалое собрание мошенников?
– Отчасти, кажется, да. Мошенников много. Но вы включаете и Германию?
– Нет: мы – разбойники и пираты. Вот вы говорили о запахе трупов, который вы так необыкновенно и благородно ощущаете, а не слышите ли вы запаха колоссальной лжи? Правда в Европе давно умерла, – вы не знаете? – и труп ее разлагается, это и есть запах лжи. И трупами пахнут только страны, а ложью? – о, от полюса и до полюса стоит ее смрадная вонь. Почему вы не слышите этого запаха? Почему вы не заметили, профессора и гуманисты, как умерла ваша истощенная культура, и продолжаете держать ее труп, разлагающийся и зловонный? Или в Европе никого не осталось, кроме мошенников и глупцов? Нет, я не злодей и не убийца. Убивают только живое, мучают только невинное. Я – могильщик для старой Европы, я хороню ее труп, и мир – да, сударь, мир! – спасаю от ее зловония. И если мои профессора, начитавшиеся Шекспира, – которого я и сам люблю! очень! – еще стремятся быть гамлетовскими могильщиками и что-то болтают о черепе Йорика; если мои демократы еще немного… цирлих-манирлих, вы понимаете? – и золотят каждую пулю братством и Марксом, то я, Вильгельм Второй и Великий, прям и откровенен, как сама смерть. Я – великий могильщик, сударь. Я миллионносильный плуг для мертвецов, который бороздит землю. И когда эти глубокие, чистые и прекрасные борозды покроют всю Европу, вы сами, профессор, назовете меня великим!
– А бессонница?
– Вы опять о бессоннице? А мой труд? Забудьте о моих усах и скажите по чести: есть ли еще в Европе человек, который мог бы вместить и преодолеть столько, сколько я, германский император? Сколько врагов у Германии, вы знаете? А она одна – одна во всем мире. Одна и побеждает. Какое из государств древнего и нового мира могло бы выдержать такую борьбу: одного со всеми, кроме Германии? А Германия – это я. О, как бы я был счастлив, профессор, на вашем месте: вы видели Вильгельма в этот роковой час, вы слышали его! За это можно заплатить не только свободой, но и… жизнью.
– Мания величия?
– Да. Всякий немец, начиная с меня, имеет право на манию величия. Вы – нет, для вас пусть останутся остальные болезни, вы согласны? Вильгельм засмеялся и даже похлопал слегка пленника по плечу, мельком взглянув на револьвер, который лежал на круглом столе, недалеко от профессора. Это был заряженный револьвер самого Вильгельма, кем-то глупо положенный и забытый на столе. И продолжал, смеясь:
– Не правда ли, какая интересная ночь? Это, пожалуй, лучше вашей кафедры, профессор! Этих деревянных подмостков для актеров гуманности так много в Европе… но вот странное, очень странное обстоятельство, профессор… не объясните ли вы? Я сам проходил курс университета и знаю, что все профессора учат разуму, справедливости, праву, добру, красоте и так далее. Все! И еще ни один не учил злу и канальству. Но отчего же все ваши ученики – такие ужасные мошенники и лжецы? Вы их не так учите или они не так записывают в тетрадки?
– А чему они научили вас? Я хотел бы видеть ваши тетрадки.
Император засмеялся:
– Прекрасные тетрадки, профессор; моя жена ими гордится. Меня они научили – не верить им. Разве вы сами верите актеру или плачете, слушая граммофон? Это роли, профессор, только роли в устах бездарных лицедеев, и даже чернь уже начинает посвистывать им. Вот вы играете роль доктора прав – я не ошибаюсь? – но кто же, не сойдя с ума, поверит вам, что вы действительно – доктор прав! Теперь вы в новой роли: вы перегримировались, и на вас мундир бельгийского солдата, но… – Вильгельм быстро взглянул на револьвер, – но не скажу, чтобы и здесь вы обнаружили особый талант. Вам не хватает простоты и убедительности!