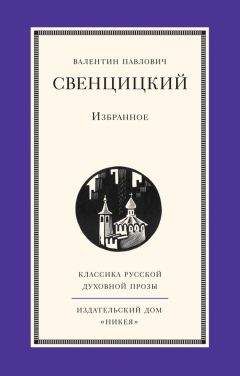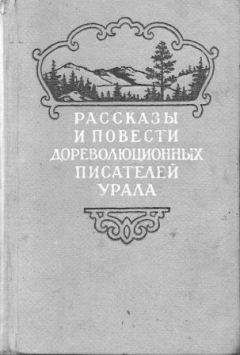Коля замолчал. Взял Христа за руку – посмотрел.
Потом перевел глаза на Христа – и заплакал.
Христос молча гладил его по волосам.
Колинька все затихал, затихал и вдруг обнял Его, прижался к Нему и, пряча лицо в белых Его одеждах, проговорил:
– Миленький мой. Господи… как больно-то Тебе… не хочу я… не надо так…
Олинька не плакала и все целовала руку Христа.
– Ты не уйдешь от нас? Не уйдешь? – говорил Колинька. – Ты навсегда к нам? Да?
– Да, – сказал Христос.
– И больше не будет так, да?
Христос молчал.
– Вот что тогда, – решительно сказал Коля. – Пусть у всех! И у меня, и у няни, и у мамы – у всех. Пусть одинаково. Пусть всем больно. Хорошо?! Да?
Христос тихо наклонил голову.
Коля поднял свои руки и увидал, что они обе пробиты гвоздями.
– Смотри, смотри, – весь затрепетав от восторга, воскликнул Коля, – и у меня!
Он схватил руку Олиньки, и на ее руках были раны:
– У нее тоже! Видишь? Значит, у всех? Олинька, мы тоже воскреснем! Господи… миленький мой… Как хорошо-то, как хорошо-то!..
Колю разбудила няня. Только что пришла от заутрени. Уронила яйцо нечаянно на пол.
– Ты что, нянечка?… – сквозь сон сказал Коля.
– Спи, спи, родной… Из церкви вот пришла.
– Христос воскрес, нянечка…
– Воистину воскрес… спи, родной мой, спи…
1912
Никогда еще дедушка Еремеич не ловил в свои вентеря[1] такого количества рыбы.
Впрочем, и время было самое рыбное – начало мая.
Волга залила левый берег, потопила луга и леса, врезалась на десятки верст ериками – быстрыми, глубокими весенними речками, которые уйдут назад, когда сбудет вода, образуя узкие пересохшие овраги.
По этим ерикам весной заходит в озера рыба: щука, лини, окуни и особенно сазаны. Сазан мечет икру на мелких местах и входит в ерик, чтобы найти широкие поляны, залитые водой.
Еремеич еще с утра перегородил вентерями несколько ериков и на закате поехал подымать их. Лодка у него была самодельная, старая, вся в заплатах. Весла короткие. Сам он шершавый, обросший беспорядочными седыми волосами. На селе держался Еремеич особняком, жил бедно, перебивался кое-как рыбной ловлей. Ездил за рыбой всегда один, за это так его и прозвали «бобылем»…
Лениво шлепая веслами, проехал Еремеич по течению мимо рыбацкого стана, завернул за песчаный бурун и въехал в пенистый ерик.
Вода шла быстро, нагибая мягкие прутья затопленных кустов; молодые, весенние листья даже вечером казались ярко-зелеными; теплый, душистый воздух смешивался с прохладными струями лесной сырости. Лодку гнало весело по теченью, покачивая из стороны в сторону. Еремеич сложил весла и только отталкивался, когда лодку прибивало к затопленному дереву.
В узком проходе, сжатом высокими крутыми берегами, где вода шла особенно быстро, торчали три длинные палки: это стоял первый вентерь.
Еремеич схватился рукой за ближайшую палку. Лодку быстро повернуло на одном месте, борт почти зачерпнул воду, но Еремеич держался крепко. Осторожно перебирая, подвел лодку к берегу и начал подымать «крылья». Сначала одно крыло с палкой положил в лодку, потом другое. И не успел еще взяться за третью палку, чтобы вытащить матню[2], как рыба уже забилась, заплескалась в воде. Он нагнулся, красными, мокрыми руками раскачал третий, самый длинный, кол и стал вынимать вентерь. Вот на поверхности показались круглые бока сетки, в нее запуталось несколько мелких, белых рыбешек «густерок», как презрительно называют их рыбаки, вот плеснулась темная спина линя, острая морда щуки уткнулась в разорванную сеть, и наконец Еремеич увидал главную свою добычу – крупных сазанов, как на подбор, один к одному. Едва втащил он полную матню в лодку. Руки его ослабли от холодной воды и неожиданной удачи. Он путал сетку, топтал ее неуклюжими сапогами и неловко протаскивал через узкое горло матни скользкую, трепетавшую рыбу.
Еремеич бросал ее на дно лодки, не считая, но опытный глаз сразу делал нужный ему подсчет. Сначала выбрал он мелкую «густеру». «Ну, эта себе на уху пойдет…» Потом щук – «щуки икряные, рубля на два всей-то будет». Потом стал тащить мягких упругих линей… «Тоже рубля на два наберется…» И наконец принялся за сазанов. Сазаны лежали спокойно, но при малейшем прикосновении резко бились сильными хвостами и выскальзывали из рук. Он встал на колени на мокрое дно лодки и начал вынимать двумя руками. С трудом можно было просунуть широкую спину сазана в узкий ход матни, и Еремеич с особенным удовольствием каждую вынутую рыбу держал некоторое время на весу и потом уже кидал в лодку, подбрасывая немного вверх.
Но все это было начало удачи.
С каждым новым вентерем лодка наполнялась все больше, Еремеич потерял счет и линям, и щукам, и сазанам. Знал он только одно, что много. Так много, как не запомнит за все свое рыбачество.
Солнце спустилось за песчаный бурун. Против течения ехать было трудно. Еремеич стал торопиться домой. До Волги по ерику проехать надо было версты полторы, а там еще проехать Волгу на перевал, с парусом: ветер дул попутный, теплый…
Еремеич греб привычным равномерным взмахом, а сам все думал о рыбе: «Рублей на двадцать, а то и больше… Завтра базар – разом всю разберут… Продам, а к вечеру снова ехать надо. Демьяновым скажу – в Верблюжьем затоне был… пусть едут…»
Еремеич устал. Руки промерзли от холодной воды и теперь на теплом весеннем воздухе горели и ныли. Рыба, накрытая мокрыми сетками, успокоилась и только изредка билась о края лодки. Ерик становился все тенистей, небо серело и ближе придвигалось к земле. Вдруг по верхушкам деревьев пронесся тревожный, протяжный гул. Еремеич насторожился. Поднял голову. И приналег на весла. По течению ехать было незаметно, а теперь вода крепко обхватывала лодку и отбрасывала назад.
«Только бы до Волги дотянуться, – думал он, – там парусом живой рукой…»
Деревья шумели все протяжнее, все тревожнее. Темнеть стало резко, порывами. Вода в ерике отливалась стальным блеском и, казалось, еще стремительней ударяла в тяжелую лодку.
«Который день к вечеру ветер, – думал Еремеич и успокаивал себя: – А к ночи все разойдется. Как бы не пришлось на стану пережидать».
И снова стал думать о рыбе.
«Сазан метать икру шел, к Дарьиной поляне пробирался… щука-то везде шныряет, а вот линя столько – диковинно… Не упомню такого линя… Коли подвозу не будет, все три красеньких можно взять… Базар большой: на луга едут… А переждать придется», – снова с досадой подумал он, прислушиваясь, как бушевал ветер.
Деревья скрипели и раскачивались в разные стороны, даже тонкий тальник гнулся против течения. И по узкому ерику пошли неровные волны.
Выехал Еремеич в затон, когда уже совсем стемнело. Поехал вдоль самого берега.
«Нет, нельзя ехать через Волгу, – окончательно решил Еремеич, – пережду ветер на стану…»
Под песчаным буруном, где затон соединялся с Волгой, вспыхивал огонь.
«Не спят – уху, верно, варят…»
Еремеич плотней прикрыл рыбу, чтобы нельзя было видеть, сколько ее, и повернул лодку на берег. Волны подхватывали и мешали пристать. Рыбак Андрей Прокофьич крикнул от костра:
– Еремеич?…
– Я.
– К лодке причаль…
Черная тень подошла к воде.
– Много наловил?
– Наловишь, – неохотно проворчал Еремеич, – вишь, погода.
Лодку кое-как привязал и выпрыгнул на берег.
– Ночевать будешь? – спросил Андрей Прокофьич.
– Нет, домой надо, пережду ветер.
– Иди, грейся. Уху варим.
– Кто с тобой?
– Гришка.
Подошли к костру.
– Не переждешь, – говорил Андрей Прокофьич, – ветер ночной дует… Дня на два, смотри, подымется.
– Мне нельзя, – угрюмо ворчал Еремеич, вытягиваясь около костра, – к утру надо.
– О старухе соскучился, – засмеялся Гришка.
– Да, о старухе… Много наловили?
– Есть, – весело отозвался Андрей Прокофьич, – сом пошел. Сазана много…
Еремеич посмотрел на небо: ни звездочки. Серая, мутная мгла придвинулась совсем близко над головой…
«Не стихнет, пропала рыба, – тоскливо думал он, – ветер теплый, сгноишь всю… Линь жирный…»
– На базар думал везти? – спросил Андрей Прокофьич. – Мы тоже думали, да нет, не придется, верно.
– Поеду, – упрямо сказал Еремеич.
Гришка засмеялся:
– Лучше кидай рыбу назад.
– Да, кидай… Сам кидай…
И снова тревожно смотрел на небо и прислушивался, как свистел ветер и весенние размашистые волны глухо ударяли в песок.
«Пропадет рыба, сгноишь всю… – теперь для него это стало вдруг ясно до очевидности. – Весь улов погибнет. И лини, и сазаны, и щуки. Ни тридцати рублей не будет, ни двадцати, ни копейки…»
– Ехать надо, – решительно сказал он.
Гришка засмеялся:
– На дно. К щукам в гости.
– Одному не доехать, – серьезно проговорил Андрей Прокофьич, – лучше пережди.
– Не переждешь. Ехать надо, лодка тяжелая, не перевернется.