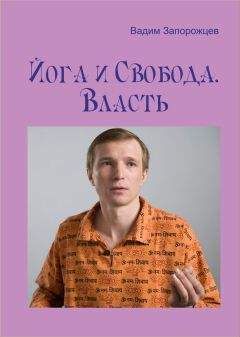- Объяснят, - сказала Зоя. - Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений.
- Товарищи, это провокация! - Игорь заметался по комнате, разыскивая рубашку. - Это провокация. Это "Голос Америки", они на нашей волне передают!
Он запрыгал на одной ноге, натягивая брюки.
- Ох, извините! - Он выскочил на террасу и там застегнул ширинку. Никто не улыбнулся.
- "Голос Америки"? - задумчиво переспросил Володька. - Нет, это невозможно. Технически невозможно. Ведь сейчас, - он взглянул на часы, половина десятого. Идут передачи. Если бы они работали на нашей волне, мы бы слышали и то, и другое...
Мы снова вышли наружу. На террасах соседних дач появились полуодетые люди. Они сбивались группами, пожимали плечами и бестолково жестикулировали.
Зоя закурила, наконец, свою сигарету. Она села на ступеньку, упершись локтями в колени. Я смотрел на её обтянутые купальником бедра, на грудь, наполовину открытую глубоким вырезом. Несмотря на полноту, она была очень хороша. Лучше всех остальных женщин. Лицо у нее, как всегда, было спокойным и немного сонным. За глаза её называли "Мадам Флегма".
Игорь стоял среди нас совершенно одетый, как миссионер среди полинезийцев. После категорического заявления Володьки о том, что сообщение по радио не могло быть фокусами заокеанских гангстеров, он присмирел. Видно, он уже жалел о том, что так решительно объявил передачу провокацией. Но, по-моему, он напрасно испугался: стукачей среди нас вроде не должно было быть.
- Отчего мы, собственно, всполошились? - бодро сказал он. - Зоя права: будут разъяснения. Толя, ты как думаешь?
- А чёрт его знает, - пробормотал я. - Еще почти месяц до этого самого, как его, Дня открытых...
Я осекся. Мы снова с недоумением уставились друг на друга.
- Ладно, - Игорь тряхнул головой. - Я думаю, это все связано с международной политикой.
- С президентскими выборами в Америке? - Да Игорек?
- Ох, Лилька, ты-то уж помолчала бы! Черт-те что несешь!
- Идемте купаться, - сказала Зоя, поднимаясь. - Толя, принеси мою резиновую шапочку.
Очевидно, вся эта неразбериха даже её выбила из колеи, иначе бы она не назвала меня при всех на "ты". Но этого, кажется, никто не заметил.
Когда мы шли к речке, Володька нагнал меня, взял под руку и сказал, скорбно глядя своими библейскими глазами:
- Понимаешь, Толя, я думаю, здесь что-то насчет евреев замышляют...
II
Ну кто бы смог, ну кто бы вынес,
Когда бы не было для нас
Торговли масками на вынос
На каждый день, на каждый час?
Рядись лифтером и поэтом,
Энтузиастом и хлыщом,
Стучись в окошко за билетом,
Ори! Но но забудь при этом,
Что "Вход без масок воспрещён".
Илья Чур. "Билеты продаются".
Вот я пишу все это и думаю: а зачем мне, собственно, понадобилось делать эти записи? Опубликовать их у нас никогда не удастся, даже показать прочесть некому. Переправить заграницу? Но, во-первых, это практически неосуществимо, а во-вторых, то, о чем я собираюсь писать, уже рассказано в сотнях зарубежных газет, по радио об этом день и ночь трещали; нет, у них там все это давно обсосано. Да, по правде говоря, это и не очень красиво - печататься в антисоветских изданиях.
Я притворяюсь. Я знаю, зачем я пишу. Я должен сам для себя уяснить, что же всё-таки произошло. И, главное, что произошло со мной? Вот я сижу за своим письменным столом. Мне тридцать пять лет. Я попрежнему работаю в этом дурацком промышленном издательстве. Внешность моя не изменилась. Вкусы тоже. Так же, как и рань-ше, я люблю стихи, люблю выпить, люблю баб. И они меня, в общем, любят. Я в свое время был на войне. Убивал. Меня самого чуть не убили. Когда женщины вдруг притрагиваются к шраму на моем бедре, они отдергивают руку и вскрикивают шёпотом: "Ой, что это у тебя?" "Это ранение, - говорю я, - рубец от разрывной". "Бедный, - говорят они, - это было очень больно?" В общем, все, как и раньше. Любой знакомый, любой приятель, сослуживец сказал бы: "Ну, Толька, ты совершенно не меняешься!" Но ведь я-то знаю, что этот день схватил меня за шиворот и ткнул в лицо самому себе! Я-то знаю, что мне пришлось знакомиться с собой заново!
И еще одно. Я не писатель. В юности писал стихи, да и сейчас могу - к случаю; написал несколько театральных рецензий - думал таким манером пробиться в литературу, но ничего не вышло. Но я всё-таки пишу. Нет, я не графоман. Графоманы (я с ними часто встречаюсь по своей должности литсотрудника), графоманы уверены в собственной гениальности, а я знаю, что таланта у меня нет. Или, если есть, то небольшой. А писать очень хочется. Ведь что хорошо в моем положении, что приятно? Знаю заранее, что никто читать не будет, и могу писать безбоязненно, все, что в голову придет! Захочу написать:
"И черной Африкой рояль По-негритянски зубы скалит"
- и напишу. Никто меня ни в претенциозности, ни в колониализме не упрекнёт. Захочу написать о правительстве, что все они демагоги, лицемеры и вообще сволочи - и это напишу... Я могу позволить себе эту роскошь быть коммунистом наедине с самим собой.
А если быть откровенным до конца, то я всё-таки надеюсь, что у меня будут читатели - не сейчас, конечно, а через много-много лет, когда меня уже в живых не будет. В общем - "когда-нибудь монах трудолюбивый прочтет мой труд усердный, безымянный..." И думать об этом приятно.
Ну, вот, теперь, когда я совершенно открылся перед моим предполагаемым, воображаемым читателем, можно и продолжать.
Веселья у нас в тот день так и не получилось. Острили скучно, играли без азарта, пить не стали совсем и разъехались рано.
В Москве на другой день я пошел на работу. Я заранее знал, что будет неминуемый трёп об Указе, знал, кто будет высказываться, а кто помалкивать. Но, к удивлению моему, помалкивали почти все. Два-три человека, правда, спросили меня: "Ну, что вы обо всем этом думаете?" Я промямлил что-то вроде: "Не знаю... там видно будет..." - и на том разговоры прекратились.
Через день в "Известиях" появилась большая редакционная статья "Навстречу Дню открытых убийств". В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: "Растущее благосостояние - семимильными шагами подлинный демократизм - только в нашей стране все помыслы - впервые з истории - зримые черты - буржуазная пресса... Еще сообщалось, что нельзя будет причинять ущерб народному достоянию, а потому запрещаются поджоги и взрывы. Кроме того, Указ не распространялся на заключенных. Ну, вот. Статью эту читали от корки до корки, никто по-прежнему ничего не понял, но все почему-то успокоились. Вероятно, самый стиль статьи - привычно-торжественный, буднично-высокопарный - внес успокоение. Ничего особенного: "День артиллерии", "День советской печати", "День открытых убийств"... Транспорт работает, милицию трогать не велено - значит порядок будет. Все вошло в свою колею.
Так прошло недели полторы. И вот началось нечто такое, что трудно даже определить словом. Какое-то беспокойство, брожение, какое-то странное состояние. Нет, не подобрать выражения! В общем, все как-то засуетились, забегали. В метро, в кино, на улицах появились люда, которые подходили к другим и заискивающе улыбаясь, начинали разговор о своих болезнях, о рыбной ловле, о качестве капроновых чулок - словом, о чем угодно. И если их не обрывали сразу и выслушивали, они долго жали собеседнику руку, благодарно и проникновенно глядя в глаза. А доугие - особенно молодежь - стали крикливыми, нахальными, всяк выпендривался на свой лад; больше обычного пели на улицах и орали стихи, преимущественно Есенина. Да, кстати насчет стихов. "Литература и жизнь" дала подборку стихотворений о предстоящем событии - Безыменского, Михалкова, Софронова и других. Сейчас, к сожалению, я не смог достать этот номер, сколько не пытался, но кусок из софроновского стихотворения помню наизусть:
Гудели станки Ростсельмаша,
Фабричные пели гудки,
Великая партия наша
Троцкистов брала за грудки.
Мне было в ту пору семнадцать,
От зрелости был я далек,
Я в людях не мог разобраться,
Удар соразмерить не мог.
И, может, я пел тогда громче,
Но не был спокоен и смел:
Того, пожалев, не прикончил,
Другого добить не сумел...
В совершенно астрономическом количестве появились анекдоты; Володька Маргулис бегал от одного приятеля к другому и, захлебываясь, рассказывал их. Он же, выложив мне как-то весь свой запас, сообщил о том, что Игорь на каком-то собрании у себя в академии высказался в том смысле, что 10 августа есть результат мудрой политики нашей партии, что Указ еще раз свидетельствует о развертывании творческой инициативы народных масс - ну, и так далее, в обычном духе.
- Понимаешь, Толька, - сказал он, - хотя я и знал, что Игорь - карьерист и все такое, но этого я от него не ожидал.
- А почему? - спросил я. - А что тут особенного? Поручили выступить - он и выступил: был бы ты, как Игорь, членом партии, и ты бы высказывался на всю катушку.
- Я? - Никогда! Во-первых, я ни за что не вступлю в партию, во-вторых...