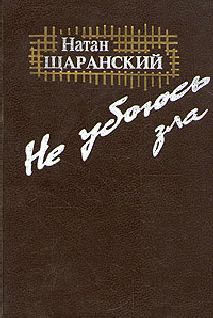-- Она будет храниться на складе личных вещей, и если вы договори-тесь с руководством тюрьмы, то ее вам дадут.
"Руководство тюрьмы" не заставило себя ждать: в комнату реши-тельным шагом вошел коренастый полковник лет шестидесяти. В ру-ках он держал газету "Известия" -- тот самый номер, как сразу же отметил я.
-- Кого это нам привезли? -- спросил он Галкина и резко повернулся ко мне. -- За какие преступления ты у нас оказался?
Говорил он подчеркнуто грубо. Я по-прежнему стоял голый, ждал, когда мне вернут мои вещи; внезапно возникшее ощущение абсолютно-го одиночества полностью владело мной в тот момент. Но агрессивность полковника задела и вывела из подавленного состояния.
-- Вы мне не тыкайте! Если здесь и есть преступник, то не я. А кто я такой -- вы прекрасно знаете, недаром же прихватили с собой эту газету.
На несколько секунд воцарилось молчание. Полковник отошел к сто-лу, прочитал постановление об аресте.
-- А, да вы же изменник Родины! -- опять повернулся он ко мне. -Поставьте его там, -- указал он старшинам на противоположный угол комнаты.
Один из них взял меня за руку и отвел туда. Полковник некоторое время пристально рассматривал меня, а я не менее демонстративно раз-глядывал его.
-- Что, давно не видели голых мужчин? -- наконец спросил я. Полковник как-то неопределенно хмыкнул и сказал старшине:
-- Уже осмотрели? Дайте ему одежду. Успеет намерзнуться в карце-ре, -и, обращаясь ко мне, продолжил: -- Я -- начальник следственно-го изолятора КГБ СССР Петренко Александр Митрофанович. У меня разговор с вами будет простой: чуть что -- сразу в карцер. А там холод-но. И горячая пища только через день. Сразу "мамочка" запищите.
Тут вмешался Галкин, вроде бы извиняясь за грубый тон Петренко:
-- Прошу вас, Анатолий Борисович, иметь в виду, что администра-ция тюрьмы не имеет к нам никакого отношения. Ни они нам не подчи-няются, ни мы им.
Я одевался, слушал их и чувствовал, что присутствие духа вновь воз-вращается ко мне. Агрессивность Петренко, примитивное распределе-ние ролей между ним и Галкиным на "злого" и "доброго" начальников напомнили мне, что я среди врагов и расслабляться не следует.
Петренко между тем не унимался:
-- Как это у вас так выходит? Хлеб русский едите, образование за счет русского народа получаете, а потом изменяете Родине? Я за вас, за всю вашу нацию четыре года на фронте воевал!
Что ж, спасибо гражданину Петренко. Последние его слова оконча-тельно вернули меня к реальности, еще раз напомнили, с кем я имею дело. Теперь я уже говорил совершенно спокойно.
-- Мой отец тоже воевал на фронте четыре года. Может, он делал это за вашего сына и за вашу нацию?
-- Интересно, где это воевал ваш отец?
-- В артиллерии.
-- В артиллерии?! -- он казался искренне удивленным. -- Я тоже служил в артиллерии, но таких, как ваш отец, там что-то не видел. А на каких он воевал фронтах?
Я чуть не рассмеялся, вспомнив вдруг рассказ О`Генри о воре, подру-жившемся на почве общих болезней с хозяином квартиры, в которую он забрался.
Если вначале Петренко с Галкиным разыгрывали определенные ро-ли, то теперь полковник снял маску: он был естественным и в своем ан-тисемитизме, и в понятном желании ветерана поговорить о войне. Но мне беседовать с ним больше не хотелось. Я предпочел восстановить прежнюю дистанцию между нами и сказал:
-- По-моему, нам с вами разговаривать не о чем.
-- Ах, и разговаривать не хотите! Умный очень! Что ж, поговорим с вашим отцом, когда он придет ко мне. А вы запомните: чуть что -- в карцер!
Петренко ушел, а вслед за ним и Галкин.
-- Мы с вами еще встретимся на допросе, -- сообщил он на прощание тоном, каким утешают друга, обещая ему, что разлука будет недолгой.
Около часа просидел я в этом кабинете с двумя старшинами. Оформ-лялись какие-то бумаги, велись телефонные разговоры, кто-то входил, кто-то выходил, но все это почти не задевало моего сознания. У меня вновь возникло ощущение нереальности происходящего, и в глубине ду-ши теплилась тайная надежда: вот-вот я проснусь и выяснится, что все это было лишь ночным кошмаром.
Наконец меня уводят. Мы идем по тесным коридорам, которые ка-жутся мне непомерно длинными, останавливаемся иногда у каких-то дверей в ожидании сигнала идти дальше, затем целую вечность подни-маемся по таким же длинным и узким лестницам. До какого этажа мы добрались -- не знаю, но такое впечатление, что до седьмого или вось-мого. В огромном кабинете, куда меня ввели, сидит Галкин. Над ним на стене -- герб СССР, показавшийся мне гигантским хищным ракопауком из фантастической повести Стругацких. Я сижу за маленьким сто-ликом в противоположном от Галкина конце кабинета. На столике пе-редо мной два кодекса: уголовный и уголовно-процессуальный. Галкин предлагает мне ознакомиться с теми статьями УПК, где говорится о мо-их правах и обязанностях. Я читаю, но мало что воспринимаю. Юриди-ческая терминология: "подозреваемый", "обвиняемый", "право на защи-ту", "доказательная сила", "улики", "вещественные доказательства", "умысел" и тому подобное -- производит на меня угнетающее впечатле-ние. Она принадлежит новому миру, где мне теперь придется жить, но в котором, как я понимаю, я никогда не буду чувствовать себя так уве-ренно, как мой собеседник. Быстро перелистываю страницы УПК, так и не прочитав толком предложенные мне статьи.
-- Теперь ознакомьтесь со статьей шестьдесят четвертой УК РСФСР, по которой вы обвиняетесь, -- сказал Галкин.
Во вторую книгу предусмотрительно вложена закладка на соответст-вующей странице. Хотя эту-то статью я за последние дни выучил бук-вально наизусть.
-- Итак, вы обвиняетесь... впрочем, пока еще подозреваетесь, но об-винение будет вам предъявлено, как и предусмотрено законом, в тече-ние десяти дней, в измене Родине в форме помощи капиталистическим государствам в проведении враждебной деятельности против СССР. Что вы можете сообщить по существу предъявленного вам обвинения?
-- Никаких преступлений я не совершал. Моя общественная дея-тельность как активиста еврейского эмиграционного движения и члена Хельсинкской группы была направлена исключительно на информиро-вание международной общественности и соответствующих советских организаций о грубых нарушениях советскими властями прав граждан, добивающихся выезда из СССР, и находилась в полном соответствии... -- я произносил все это почти автоматически, не задумываясь. В последние дни мне часто приходилось отвечать на вопросы о смысле, це-лях и характере моей деятельности -- правда, иностранных корреспон-дентов, интервьюировавших меня в ожидании скорой развязки. То были репетиции, сейчас -- премьера. Впрочем, меня довольно быстро и грубо прервали.
Галкин неожиданно сбросил личину добродушного дядюшки, загово-рил вдруг громко, резко, срываясь на крик.
-- Это вам не пресс-конференция! -- привстав, стукнул он кулаком по столу. -- Больше на них вам выступать не придется. Достаточно, по-клеветали! Пришло время держать ответ перед народом. Если передава-ли информацию, то так и говорите -- где, когда и кому. Вы, кажется, еще не уяснили себе своего положения. Прочитайте внимательно ... часть статьи.
Какую именно часть -- я не расслышал, он произнес незнакомое мне слово -- очевидно, какой-то специальный юридический термин. Я дога-дался, что он имеет в виду, но все же почему-то переспросил:
-- Какую часть статьи ?
Видимо, мой голос дрогнул, ибо Галкин зло рассмеялся. Быстрота, с которой он перешел от приветливых, доброжелательных улыбок к злоб-ному, поистине сатанинскому смеху, была просто поразительной.
-- Прочитайте часть о наказании. Вам грозит смертная казнь. Рас-стрел!
Впервые после моего ареста прозвучало это слово. В первый раз я ус-лышал его, и сердце мое заныло, сжалось; во рту пересохло. Казалось бы, я должен был ожидать этого. Но все последние дни, обсуждая веро-ятность ареста по шестьдесят четвертой статье, мы почему-то вообще не говорили о возможности "вышки" -- вероятно, каждый из нас понимал, что такой вариант существует, но подсознательно гнал от себя страш-ную мысль. В наших беседах и даже в моем последнем письме Авитали, которое я успел отдать Роберту Тоту, корреспонденту "Лос-Анджелес Тайме" и моему другу, за день до ареста, я говорил лишь о вероятности осуждения на десять лет. Не знаю, заметил ли мою реакцию Галкин, но продолжал он с явным воодушевлением:
-- Да, да, расстрел! И спасти себя можете лишь вы сами и только чи-стосердечным раскаянием. На ваших американских друзей можете больше не рассчитывать.
Галкин говорил еще долго, все так же агрессивно и напористо, но я практически перестал его слушать, убеждая себя: "Ты ведь был к этому готов. Ничего неожиданного не произошло". Я чувствовал легкую дрожь в руках и сжимал их между колен, чтобы Галкин не заметил этого.
А тот продолжал на самых высоких тонах:
-- Вас уговаривали, предупреждали, а вы продолжали свою преступ-ную деятельность! Но уж теперь ни Израиль, ни Америка вам не помо-гут! -- и долго еще выкрикивал что-то в том же духе.