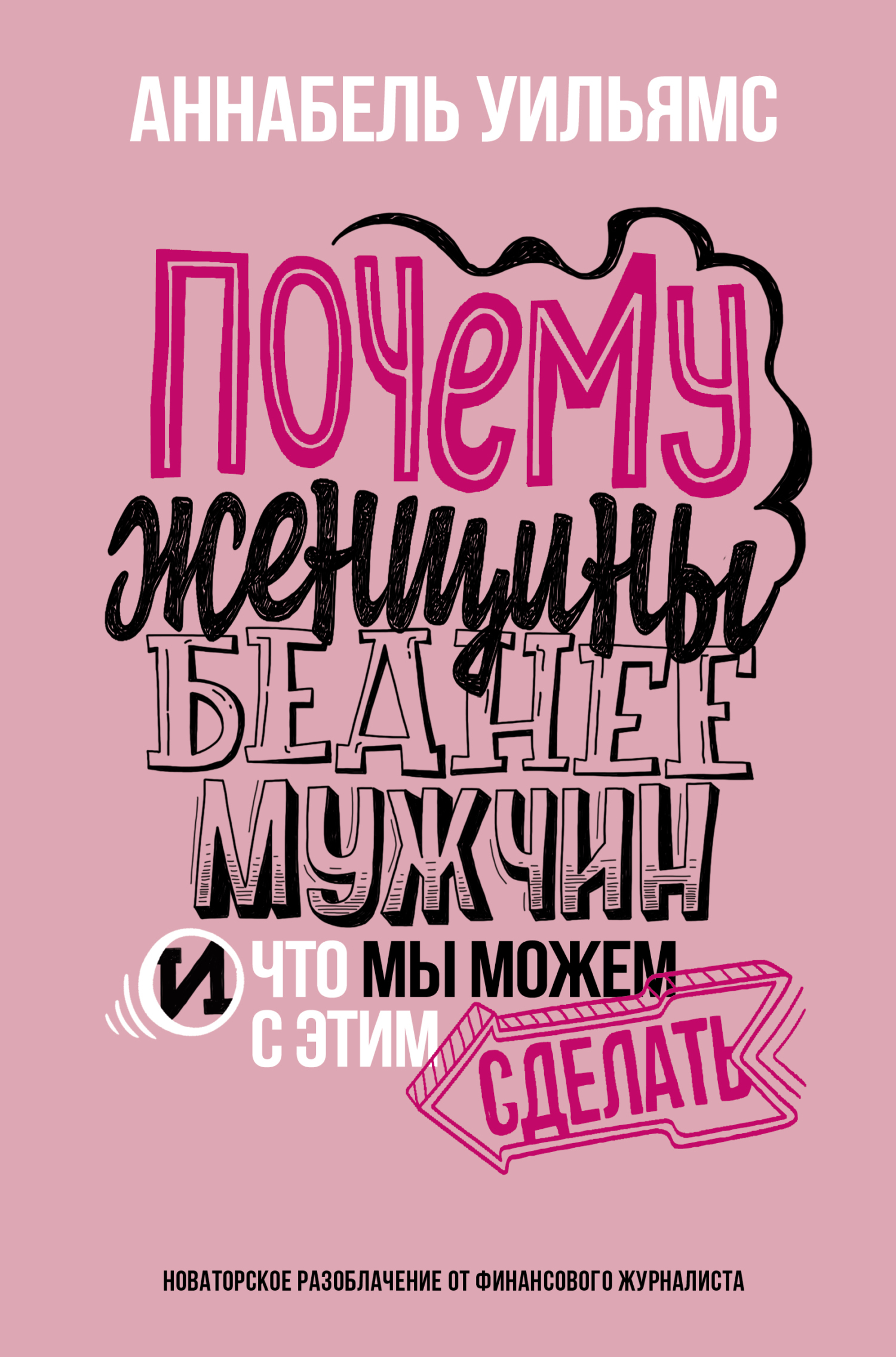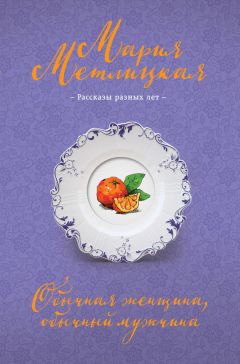старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопенья.
Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности. Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко, с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась стукотня в окне и вслед за тем кто-то запел тоненьким голосом:
Коляда, коляда!
Пришла коляда!
Мы ходили, мы искали
По всем дворам, по проулочкам…
— Мамка, пусти к ребятам на улицу! — заголосили в то же время ребятишки, выступая из угла, пусти хоша поглядеть…
— Цыц, окаянные! цыц! — крикнула старостиха, ухватившись второпях за ногу мужа и поворачивая назад голову.
— Мамка, мамка!.. — заголосили громче парнишки, подстрекаемые пением за окном, которое не умолкало, — пусти поглядеть на ребят…
Но старостиха недослышала далее; она соскочила наземь, схватила веник и со всех ног метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
— Вот тебе, вот тебе!.. — проговорила мать, скрепляя каждое слово новым ударом. — Ну, перестань же, перестань, — присовокупила она, смягчая неожиданно голос и увлекая его к столу, — перестань, говорят; нá пирожка, нá пирожка, — продолжала старуха, суя ему под нос кусок, — нá пирожка… А, так ты не хочешь, пострел, не хочешь… нá же тебе, нá тебе! — И веник снова зашипел в воздухе. — Ну нá пирожка… возьми… о! о! уймешься ты али нет?! опять!.. постой же, постой…
И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего, и тот же голос запел, но только настойчивее:
Чанны ворота!
Посконна борода.
Кричать ли Авсень?.. [62]
— Матушка, подай им хоть лепешку, — сказала старшая дочь, робко взглядывая на мать и потом обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно, — они, матушка, так-то хуже не отстанут…
— Не отстанут! ах, ты дура, дура! — крикнула старостиха, бросая Фильку и останавливаясь впопыхах посередь избы, — а вот погоди, я им дам лепешку…
Но шум под окном обратился уже в неистовые крики, сопровождаемые присвистыванием, прищелкиванием, и голос распевал во все горло:
Чанны ворота,
Посконна борода,
Честь была тебе пропета,
Подавай лепешку
В заднее окошко!
Присоединенный к этому вой Фильки и рев остальных детей остервенили вконец старуху; и Бог весть, чем бы все это кончилось, если б не голос старосты, который раздался почти в то же время с печки:
— Старуха… о! что у вас там такое? соснуть не дадут… никак колядки задумали петь… гони их…
— А сам-то ты что лежишь на печке, увалень ты этакой. Бьюсь не добьюсь поднять его на ноги; тьфу!..
Старый черт, подай пирога,
Не дашь пирога — изрубим ворота.
Авсень!.. —
раздалось под окном.
— Вишь, черти! — вымолвил староста, подпираясь локтем и лениво потирая лысину, — поди, уйми их, старуха, чего стоишь?
Старостиха подняла окно и высунулась на улицу; но почти в ту же минуту отскочила на середину избы. Несколько комков снега влетели вслед за нею.
— Ух! окаянные! ух, дьяволы! — завопила старуха, протирая глаза и метаясь как угорелая из угла в другой, — где кочерга?.. где? а все ты, увалень! лежит себе, словно с ног смотался, — не шелохнется, хоть дом гори.
На будущий год
Осиновый тебе гроб… —
крикнул кто-то звучным голосом, ударив кулаком в оконную раму.
— А вот погоди, погоди, — проговорил староста, спускаясь наконец с печки, — дам тебе осиновый гроб; это, я знаю, все Гришка Силаев озорничает; погоди, я тебе шею накостыляю, — заключил он, став на пол и протирая глаза. — Вы чего?.. Ну, чего воете?
— Тятька, пусти нас на улицу! — жалобно отозвались ребята.
— На улицу! — прытки добре; слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется… Парашка, давай кушак да шапку — они, кажись, на лавке под образами, — давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечеряли… — промолвил он, обращая сонные глаза на старшую дочь, которая во все это время так же неподвижно сидела на лавочке, изредка лишь завистливо поглядывая на уличное окно.
— Ну вот, давно бы так, ступай-ка, ступай!.. и то два раза спрашивали, — сказала старуха, торопливо подавая варежки.
— Вот что, хозяйка, — вымолвил муж, останавливаясь у двери, — смотри, без меня никого не пущай в избу; не равно ряженые придут — гони их в три шеи… Повадились нынче таскаться… А пуще всего не пущай Домну. Чтоб и духу ее здесь не было…
— Чего ей ходить-то, — недовольным голосом возразила жена, — небось не придет… Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку…
Сказав это, она набросила полушубок на плеча и, ворча что-то под нос, поплелась за мужем. Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужею и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
— Ух! морозно добре стало, старуха… ух… ишь как ее, погодка-то, разгулялась… у!..
Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
— Ну вот еще что выдумал! первинка тебе небось, ступай, ступай; тебе так спросонья почудилось; вестимо, ветер гудет — зимнее дело; ступай, у Савелия давно уже, я чай, завечеряли, — ступай, говорю, не срамись…
И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
Пробравшись к воротам, она отворила калитку, оглянулась во все стороны и наконец вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело; вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
— Ну, что ж ты, Параша, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу, — сказала она, неожиданно обращая речь к старшей дочери.
— Я думала, матушка, ты не велишь… — отвечала девушка, радостно вставая с места.
— Мамка, пусти и нас! — произнес сквозь слезы голос из угла.
— Што-о-о!.. — воскликнула старуха, быстро поворачиваясь к углу.
Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с тою, однако ж, разницею, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
— Чего вы, пострелы,