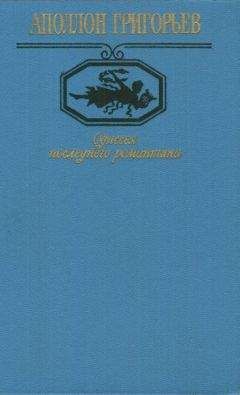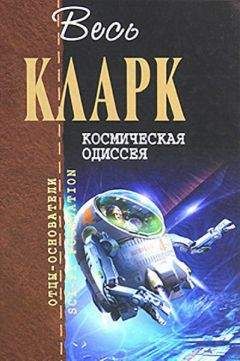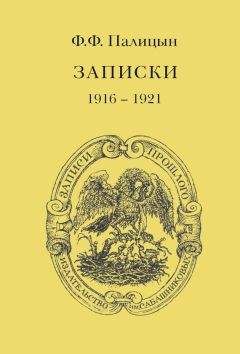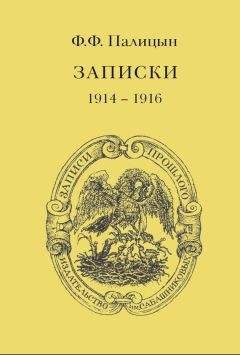2
Марта 27, 18.. года
Верую, Господи, и исповедую, яко
ты еси Христос, Сын Бога Живого,
пришед в мир грешныя
спасти, от них же первый есьмь аз.
I
И подошла она, смиренно-величава,
И вместе с прочими пред чашей пала в прах.
И осияла всех, казалось, Божья слава,
И я почувствовал в душе невольный страх,
И дряхлыми, но твердыми руками
Служитель Вышнего открыл Святой фиал,
И средь молитвы всех — молитву он читал —
Я голову склонил… и с верой и слезами
Его слова тихонько повторял.
И верил я, что Сын Живого Бога,
Пришедший в мир погибшия взыскать,
Недаром счастья мне послал с небес так много,
Недаром дал любви и веры благодать.
II
Марта 28
Отец Любви! Перед тобой
Теперь склоняюсь я в смиренье
Когда-то полною сомненья,
Когда-то гордой головой.
Я не ропщу на мой удел,
На бытие без назначенья…
Путем страданья к просветленыо
Идти Божественный велел.
И я, страдая и тоскуя,
Тоской стремлюсь куда-нибудь —
Куда-нибудь ведет мой путь…
Цель жизни, может быть, найду я.
III
И брожу я с надеждой, с любовью, с тоской
Мимо дома ее, мимо милых мне окон
И смотрю — не сияют ли очи за рамой двойной.
Не белеет ли ручка, не чернеет ли локон?
И когда луч очей из окна на меня упадет,
Он мне сердце, как свечку, к молитве зажжет.
И сгорает и тает оно перед ним
И довольно, как факел, сгораньем своим.
IV
Простите мне! Порывы чувства
Вас оскорбили, может быть,—
Но я не ведаю искусства
В груди прекрасное таить.
Простите мой невольный трепет,
Восторга страсти полный взгляд,
Смятение и странный лепет.
Простите мне — я виноват.
Я забывал, встречая вас,
Что есть толпа, что есть другие,
Что мир разъединяет нас,
Что друг для друга мы чужие.
V
Дитя, дитя! Не смейся надо мной,
На плечи не спускай небрежно черный локон,
Не улыбайся мне улыбкою живой,
Когда, смятенья полн, поникнув головой,
С надеждой робкою брожу я мимо окон.
Дитя! Не знаешь ты, что страшною ценой
Я покупаю счастья миг единый,
Что лучшею души и жизни половиной
Я заплатил за взгляд единый твой,
Звездою тихою горя над миром шумным.
Свое сияние ты льешь на всех равно —
А я?.. я веровал, что счастье быть бездумным
От взгляда твоего мне одному дана.
VI
Прости, прости! Ни вздохом, ни слезой
Не вспомнишь ты страну, тебе чужую,
Душой давно, быть может, в край иной
Стремилась ты.
О чем же я тоскую,
Чего мне жаль? Сиянья ли очей —
Сиянья звезд блестящих и холодных,
Мечтаний ли, бессонных ли ночей,
На ветер брошенных порывов благородных?
Вот есть о чем жалеть! Прощайте, добрый путь!
Что нужды вам, что в сердце чьем-нибудь
Вы лучшие сгубили упованья,
Что чья-нибудь больна чахоткой грудь,
Что вам вослед несется вздох страданья?
Блаженны вы. Вам не о чем вздохнуть…
Прощайте же, прощайте — добрый путь!
VII
Прочь, демон, прочь! Недаром были
Даны мне слезы и мечты,
Что небеса мне возвратили,
Того отнять не можешь ты.
Исчезло дивное виденье,
Но им душа еще полна.
Прочь, демон, прочь! Во мне Она,
А надо мною — Провиденье.
<Начало 1850-х гг.>
Послание к друзьям моим А. О., Е. Э. и Т. Ф.{172}
В давно прошедшие века, «во время оно»
Спасенье (traditur[45]) сходило от Сиона…
И сам я молод был и верил в благодать,
Но наконец устал и веровать, и ждать,
И если жду теперь от господа спасенья,
Так разве в виде лишь огромного именья,
И то, чтоб мог иметь и право я, и власть
Хандрить и пьянствовать, избрать благую часть.
Теперь, друзья мои, и рад бы я, конечно,
Хандрить и пьянствовать, пожалуй, даже вечно,
Да бедность не велит… Как века сын прямой,
С самолюбивою родился я душой.
Мне в высшей степени бывает неприятно,
Когда меня хандра случайно посетит,
Услышать про себя: «Хандрит? Ну да! Хандрит!»
Он «домотался», вероятно.
Известно, отчего хандрит наш брат бедняк,
Известно, пьянствуя, он заливает горе,
Известно, пьяным всем нам по колено море.
Но я б хотел хандрить не так,
Хандрить прилично, благородно,
И равнодушно, и свободно…
Хандрить и пьянствовать! Ужель
Одну ты видишь в жизни цель,
Мне возразишь печально, строго
Ты ci-devant[46] социалист
И беспощадный атеист,
А ныне весь ушедший в бога,{173}
Ф<илиппов> мой, кого на памяти моей
Во Ржеве развратил премудрый поп Матвей.{174}
Хандрить и пьянствовать! Предвижу уреканья
Я даже от тебя, души моей кумир,
Полу <нрзб> полу-Шекспир,
Распутства с гением слепое сочетанье.{175}
Хандрить и пьянствовать! Я знаю наперед,
Что мне по Бенеке{176} опровергать начнет
Евгений Э<дельсон> печальное ученье
И сам для вящего напьется наставленья…
Начало 1850-х годов
Пускай не нам почить от дел
В день вожделенного покоя —
Еговы{178} меч нам дан в удел,
Предуготованным для боя.
И бой, кровавый, смертный бой
Не утомит сынов избранья;
Во брани падших ждет покой
В святом краю обетованья.
Мы по пескам пустым идем,
Палимы знойными лучами,
Но указующим столпом
Егова сам идет пред нами.{179}
Егова с нами — он живет,
И крепче каменной твердыни,
Несокрушим его оплот
В сердцах носителей святыни.
Мы ту святыню пронесли
Из края рабства и плененья —
Мы с нею долгий путь прошли
В смиренном чаяньи спасенья.
И в бой, кровавый, смертный бой
Вступить с врагами мы готовы:
Святыню мы несем с собой —
И поднимаем меч Еговы.
Да будет проклят тот, кто сам
Чужим поклонится богам
И — раб греха — послужит им,
Кумирам бренным и земным,
Кто осквернит Еговы храм
Служеньем идолам своим,
Или войдет, подобный псам,
С нечистым помыслом одним…
Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
Да будет проклят тот вдвойне,
Кто с равнодушием узрит
Чужих богов в родной стране
И за Егову не отмстит,
Не препояшется мечом
На Велиаровых{181}
Иль укоснит изгнать бичом
Из храма торжников и псов.{182}
Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
Да будет трижды проклят тот,
Да будет проклят в род и в род,
Кто слезы лить о псах готов,
Жалеть о гибели сынов:
Ему не свят святой Сион,
Не дорог Саваофа храм,
Не знает, малодушный, он,
Что нет в святыни части псам,
Что Адонаи, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
1852
Искусство и правда.{183}
Элегия-ода-сатира
О, как мне хочется смутить веселье их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!
Лермонтов
1
Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила…
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.{184}
Я помню бледный лик Гамлета,
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой,
Тяжелой думы без ответа.
Я помню, как пред мертвецом
С окаменившимся лицом,
С бессмысленным и страшным взглядом,
Насквозь проникнут смертным хладом,
Стоял немой он… и потом
Разлился всем душевным ядом,
И слышал я, как он язвил,
В тоске большой и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Всё, что когда-то он любил…
А он любил, я верю свято,
Офелию побольше брата!
Ему мы верили; одним
С ним жили чувством, дети века,
И было нам за человека,
За человека страшно с ним!{185}
И помню я лицо иное,
Иные чувства прожил я:
Еще доныне предо мною
Тиран — гиена и змея,
С своей язвительной улыбкой,
С челом бесстыдным, с речью гибкой,
И безобразный, и хромой,
Ричард коварный, мрачный, злой.
Его я вижу с леди Анной,
Когда, как рая древний змей,
Он тихо в слух вливает ей
Яд обаятельных речей,
И сам над сей удачей странной
Хохочет долго смехом злым,
Идя поговорить с портным…
Я помню сон и пробужденье,
Блуждающий и дикий взгляд,
Пот на челе, в чертах мученье,
Какое знает только ад.
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»{186}
Его у трупа Дездемоны
В нездешних муках я видал,
Ромео плач и Лира стоны
Волшебник нам передавал…
Любви ли страстной нежный шепот,
Иль корчи ревности слепой,
Восторг иль грусть, мольбу иль ропот —
Всё заставлял делить с собой…
В нескладных драмах Полевого,{187}
Бывало, за него сидишь,
С благоговением молчишь
И ждешь: вот скажет два-три слова,
И их навеки сохранишь…
Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,{188}
И — человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.{189}
Угас волкан, окаменела лава…
Он мало жил, но много нам сказал,
Искусство в нем нам не была забава;
Страданием его повита слава…
Как Промифей, он пламень похищал,
Как Промифей, он был терзаем враном…
Действительность с сценическим обманом
Сливались так в душе его больной,
Что жил вполне он жизнию чужой
И верил сердца вымышленным ранам.
Он трагик был с людьми, с собой один,
Трагизма жертва, жрец и властелин.
Угас волкан, но были изверженья
Так страшны, что поддельные волненья
Не потрясут, не растревожат нас.
Мы правду в нашем трагике любили,
Трагизма правду с ним мы хоронили;
Застыла лава, лишь волкан погас.
Искусственные взрывы сердцу чужды,
И сердцу в них нет ни малейшей нужды,
Покойся ж в мире, старый властелин…
Ты был один, останешься один!
2
И вот, пришла пора другая…
Опять в театре стон стоит;
Полусмеясь, полурыдая,
На сцену вновь толпа глядит,
И с нею истина иная
Со сцены снова говорит.
Но эта правда не похожа
На правду прежнюю ничуть;
Она простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь…
Дай ей самой здоровье, боже,
Пошли и впредь счастливый путь.
Поэт, глашатай правды новой,{190}
Нас миром новым окружил
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил.
Жила та правда между нами,
Таясь в душевной глубине;
Быть может, мы ее и сами
Подозревали не вполне.
То в нашей песне благородной,
Живой, размашистой, свободной,
Святой, как наша старина,
Порой нам слышалась она,
То в полных доблестей сказаньях
О жизни дедов и отцов,
В святых обычаях, преданьях
И хартиях былых веков,
То в небалованности здравой,
В ума и чувства чистоте,
Да в чуждой хитрости лукавой
Связей и нравов простоте.
Поэта образы живые
Высокий комик{191} в плоть облек…
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток,
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.
Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломятся толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет и смеется,
Там — целый мир, мир полный и живой…
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно — весело теперь за человека!
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо кажет путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд —
Как Волга-матушка, широкий и гульливый!
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом…
3
Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шаркать по паркетам.
Французский и произносить
Тут есть охотников немало
(Кому же обезьяной быть
Ума и сметки не ставало?).
Но не одни бонтоны{192} тут:
Видна мужей ученых стая;
Похвальной ревностью пылая,
Они безмездно взяли труд
По всем эстетикам немецким
Втолковывать героям светским,
Что есть трагизм и то и сё,
Корпель и эдакое всё…
Из образованных пришли
Тут два-три купчика в немецком
(Они во вкусе самом светском
Себе бинокли завели).
Но бросим шутки тон… Печально, не смешно —
Что слишком мало в нас достоинства, сознанья,
Что на эффекты нас поддеть немудрено,
Что в нас не вывелся, бичеванный давно,
Дух рабского, слепого подражанья!{193}
Пускай она талант, пусть гений! — дай бог ей!
Да нам не ко двору пришло ее искусство…
В нас слишком девственно, свежо и просто чувство,
Чтобы выкидывать колена почудней.
Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной…
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Всё то, что человека благородит.{194}
Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять,
Хлам старых классиков для штуки{195} воскрешают…
Но нам за ними лезть какая будет стать,
Когда иное нас живит и занимает?
Пускай боролися в недавни времена
И Лессинг там, и Шиллер благородный
С ходульностью (увы — как видится, бесплодно!) —
Но по натуре нам ходульность та смешна.
Я видел, как Рислей детей наверх бросает…
И больно видеть то, и тяжко было мне!
Я знаю, как Рашель по часу умирает,{196}
И для меня вопрос о ней решен вполне!
Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет…
Там фальшь — не вечное искусство!
И пусть в восторге целый свет,
Но наши неуместны восхищенья.
У нас иная жизнь, у нас иная цель!
Америке с Европой мы — Рашель,
Столодвижение{197}, иные ухищренья
(Игрушки, сродные их старческим летам)
Оставим… Пусть они оставят правду нам!
1854