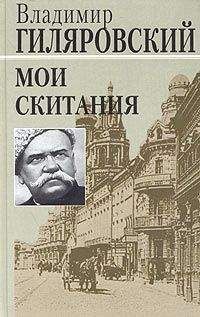Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам – то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая, Только успевай делать.
У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь. Летом в телегу, а зимой в сани-розвальни запрягает Петр Кирсаныч немудрого старого мерина, выносит с десяток больших мешков, садится на них, а за кучера – десятилетний внучек.
– Перво-наперво в Сандуновские, потом в Китайские, потом в Челышевские!
– Знаю, дедушка, знаю, как всегда!
Воскресенье – бани закрыты для публики. В раздевальне собираются рабочие: Кирсаныч обещал приехать.
Вот и он с большим мешком, на мешке надпись мелом: «Сандуны». Самая дружеская шумная встреча.
Кирсаныч аккуратно раскладывает свою работу и начинает вызывать:
– Иван Жесткий!.. Федор Горелый!.. Семен Рюмочка!.. Саша Пузырь!.. Маша Длинная!..
Тогда фамилии не употребляли между своих, а больше по прозвищам да по приметам. Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам.
И что ни кличка – то сразу весь человек в ней.
Иван действительно жесткий, Федор – всегда чуть не плачет, у Рюмочки – нос красный. Маша – длинная и тонкая, а Саша – маленький, прямо-таки пузырь.
Получают заказы. Рассчитываются. Появляется штоф, стаканчик, колбаса с огурцами – чествуют и благодарят земляка Кирсаныча.
Он уезжает уже на «первом взводе» в Китайские бани… Там та же история. Те же вызовы по приметам, но никто не откликается на надпись «Петрунька Некованый». Только когда вытряхнулись из мешка блестящие сапоги с калошами, на них так и бросился малый с сияющим лицом, и расхохотался его дядя:
– Некованый!
Опять штоф, опять веселье, проводы в Челышевские бани… Оттуда дальше, по назначенному маршруту. А поздним вечером – домой, но уж не один Кирсаныч, а с каким-нибудь Рюмочкиным, – оба на «последнем взводе». Крепко спят на пустых мешках.
Такой триумфальной гулянкой заканчивал Кирсаныч свою трудовую неделю.
Сандуновские бани, как и переулок, были названы в начале прошлого века в честь знаменитой актрисы-певицы Сандуновой. Так их зовут теперь, так их звали и в пушкинские времена.
По другую сторону Неглинки, в Крапивинском переулке, на глухом пустыре между двумя прудами, были еще Ламакинские бани. Их содержала Авдотья Ламакина. Место было трущобное, бани грязные, но, за неимением лучших, они были всегда полны народа.
Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже знаменитого актера Силы Сандунова, дом которого выходил в соседний Звонарный переулок, также был большой пруд.
Здесь Сандунова выстроила хорошие бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, сохранив обогащавшие ее старые бани, не пожалела денег на обстановку для новых.
Они стали лучшими в Москве. Имя Сандуновой помогло успеху: бани в Крапивинском переулке так и остались Ламакинскими, а новые навеки стали Сандуновскими.
В них так и хлынула Москва, особенно в мужское и женское «дворянское» отделение, устроенное с неслыханными до этого в Москве удобствами: с раздевальной зеркальной залой, с чистыми простынями на мягких диванах, вышколенной прислугой, опытными банщиками и банщицами. Раздевальная зала сделалась клубом, где встречалось самое разнообразное общество, – каждый находил здесь свой кружок знакомых, и притом буфет со всевозможными напитками, от кваса до шампанского «Моэт» и «Аи».
В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе.
Когда появилось в печати «Путешествие в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно описал тифлисские бани, Ламакина выписала из Тифлиса на пробу банщиков-татар, но они у коренных москвичей, любивших горячий полок и душистый березовый веник, особого успеха не имели, и их больше уже не выписывали. Зато наши банщики приняли совет Пушкина и завели для любителей полотняный пузырь для мыла и шерстяную рукавицу.
Потом в банях появились семейные отделения, куда дамы высшего общества приезжали с болонками и моськами. Горничные мыли собачонок вместе с барынями…
Это началось с Сандуновских бань и потом перешло понемногу и в некоторые другие бани с дорогими «дворянскими» и «купеческими» отделениями…
В «простонародные» бани водили командами солдат из казарм; с них брали по две копейки и выдавали по одному венику на десять человек.
Потом уже, в начале восьмидесятых годов, во всех банях постановили брать копейку за веник, из-за чего в Устьинских банях даже вышел скандал: посетители перебили окна, и во время драки публика разбегалась голая…
Начав брать по копейке за веник, хозяева нажили огромные деньги, а улучшений в «простонародных» банях не завели никаких.
Вообще хозяева пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.
В некоторых банях даже воровали городскую воду. Так, в Челышевских банях, к великому удивлению всех, пруд во дворе, всегда полный воды, вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась – и все пошло по-старому.
Секрет исчезновения и появления воды в большую публику не вышел, и начальство о нем не узнало, а кто знал, тот с выгодой для себя молчал.
Дело оказалось простым: на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. Вода шла из Мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд.
Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечеры, Синички, Хапиловки и около проточных прудов.
Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена, при примитивном водоснабжении, во второй этаж подавать воду было трудно.
Бани делились на три отделения: раздевальная, мыльная и горячая.
При окраинных «простонародных» банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе: во все времена года моющийся должен был в них проходить открытым местом и в дождь и в зимнюю вьюгу.
Правильных водостоков под полами не было: мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на десять пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья…
Такие бани изображены на гравюрах в издании Ровинского. Это Серебрянические бани, на Яузе.
Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях и «голландками» – в раздевальнях. Самой главной красотой бани считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую» и «мыльную».
Топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись с верховьев Москвы-реки, из-под Можайска и Рузы, и выгружались под Дорогомиловым, на Красном лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост:
– Плоты пришли!
Самыми главными банными днями были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно и у кранов стояли вереницы моющихся с легкими липовыми шайками, которые сменили собой тяжелые дубовые.
В «дворянских» отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дерганье зубов, а «простонародные» бани являлись, можно безошибочно сказать, «поликлиникой», где лечились всякие болезни. Медиками были фельдшера, цирюльники, бабки-костоправки, а парильщики и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали.
В окраинных «простонародных» банях эта «поликлиника» представляла такую картину.
Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва.
В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда, улучив свободное время, он занимался и медициной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы…
«Мыльная» бани полна пара; на лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится двенадцать банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка.
Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через две-три минуты банка втягивала в себя на сантиметр и более тело.
У цирюльников было правило продержать десять минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирюльник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирюльника.
– Вот сейчас добрею, не велик барин! – раздавалось в ответ.