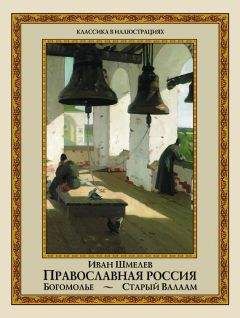Просит снести поклонник Трифонычу и зовет в другой раз к себе:
– Теперь уж найдете сразу маленького Аксенова.
Потом ходим в игрушечном ряду, у стен, под Лаврой. Глаза разбегаются – смотреть.
Игрушечное самое гнездо у Троицы, от Преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим – от святого радость, а несмысленным – игрушечка: каждому своя радость.
Всякое тут деревянное точенье: коровки и овечки, вырезные лесочки и избушки, и кующие кузнецы, и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном: все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последнем – не больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева, на высокой ножке; и волчки заводные, на пружинке, с головкой-винтиком, раскрашенные под радугу, поющие; и свистульки, и оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные, и… И сама Лавра-Троица, высокая розовая колокольня, со всеми церквами, стенами, башнями, – разборная. И вырезные закуски на тарелках; кукольные, с пятак, сочно блестят, пахнут чудесной краской: и спелая клубника, и пупырчатая малинка, совсем живая; и красная, в зелени, морковка, и зеленые огурцы; и раки, и икорка зернистая, и семужий хвост, и румяный калач, и арбуз алый-сахарный, с черными зернышками на взрезе, и кулебяка, и блины стопочкой, в сметане. Тут и точеные шкатулки, с прокладкой из уголков и крестиков, с подпалами и со слезой морского, называемой – перламут; и корзиночки, и корзины – на всякую потребу. И веселые палатки с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа – такое небесное сиянье! – на всякого Святого. И все, что ни вижу я, кажется мне святым.
– А как же, – говорит Горкин, – просвящённо все тут, благословлено. То стояли боры-дрема, а теперь-то, гляди, – блистанье! И радуется народ, и кормится. Все Господь.
Покупаем самые пустяки: оловянного петушка-свистульку, свистульку-кнутик, губную гармошку и звонницу с монашком, на полный звон, от Горкина мне на память; да Анюте куколку без головки, тулово набито сенной трухой, чтобы ей шить учиться, – головка в Москве имеется. А мне потому мало покупают, что сказала сегодня барышня Манюша, чтобы не покупать: дедушка целый короб игрушек даст, приказал молодцам набрать.
Встречаем и наших певчих, игрушки детишкам покупают. У Ломшакова – пушка, стрелять горохом, а у Батырина-октавы – зайчик из бумазеи, в травке. Костиков пустой только, у него ребятишек нет, не обзавелся, все думает. Ломшаков жалуется на грудь: душит и душит вот, после вчерашнего спать не мог. Поедут отсюда по машине – к Боголюбской в Москву спешат: петь надо, порядились.
Сходим по лесенке в овражек, заходим в «блинные». Смотрим по всем палаткам: везде-то едят-едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают:
– Блинков-то, милые!.. Троицкие-заварные, на постном маслице!..
– Щец не покушаете ли с головизной, с сомовинкой?..
– Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю… за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками прикажите!..
– А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой… белужины с хренком, горячей?.. И сидеть мягко, понежьтесь после трудов-то, поманежьтесь, милые… и квасок самый монастырский!
Едим блинки со снеточками, и с лучком, и кашнички заварные, совсем сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки, и – Антипушка упросил уважить – редечку с конопляным маслом, на заедку. Домна Панферовна целую сковородку лисичек съела, а мы другую. И еще бы чего поели, да Аксенов обидится, обед на отход готовит. Анюта большую рыбину там видала, и из соленого судака ботвинья будет – Савка нам говорил, – и картофельные котлеты со гладким соусом, с черносливом и шепталой[47], и пирог с изюмом, на горчичном масле, и кисель клюквенный, и что-то еще… – загодя наедаться неуважительно.
Во всех палатках и под навесами плещут на сковородки душистую блинную опару – шипит-скворчит! – подмазывают «кошачьей лапкой», – Домна Панферовна смеется. А кто говорит, что заячьей. А нам перышками подмазывали, Горкин доглядывал, а то заячьей лапкой – грех. И блинные будто от Преподобного повелись: стечение большое, надо народ кормить-то. Глядим – и певчие наши тут: щи с головизной хвалят и пироги с солеными груздями. Завидели нас – и накрыли бумажкой что-то. Горкин тут и сказал:
– Эх, Ломшачок… не жалеешь ты себя, братец!
И Домна Панферовна повздыхала:
– И во что только наливаются… диви бы какое горе, а то кондрашке одному на радость.
Ну, пожалели-потужили, да тужилом-то не поможешь, только себя расстроишь.
Тележка наша готова, помахивает хвостом Кривая. Короб с игрушками весело стоит на сене, корзина с просфорами увязана в чистую простыньку. Все провожают нас, желают нам доброго пути, Горкин подносит Аксенову большую просфору, за полтинник, и покорно благодарит за ласку и за хлеб-соль: «Оченно вами благодарны!» Аксенов тоже благодарит, что радость ему привезли такую: не ждал – не гадал.
– Ну, путь вам добрый, милые… – говорит он, оглядывая тележку, – приведет Бог, опять заезжайте, всегда вам рад. Василий на ярмарку поедет скоро, буду в Москве с ним, к Сергею Ивановичу побываю, так и скажите хозяину. Ну, вот и хорошо, надо принять во внимание… овсеца положили вам и сенца… отдохнула ваша лошадка.
И все любуется на тележку, поглаживает по грядке.
Репин И. Е. Вид села Варварина
– Да, – говорит он задумчиво, – надо принять во внимание… да, тележка… таких уж не будет больше. Отворяй ворота! – кричит он дворнику, натягивает картуз и уходит в дом.
– Расстроился… – говорит нам Горкин, шепотом, чтобы не слыхали. – Ну, Господи, благослови, пошли.
Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.
– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!..
Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на подымающийся из чаши крест:
Пресвятая Троица, помилуй нас!
Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..
Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из-за садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались – и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко потукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно – между лесочками. Видно между лесочками, позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка. Прощай!..
– Вот мы и помолились, привел Господь… благодати сподобились… – говорит Горкин молитвенно. – Будто теперь и скушно, без Преподобного… а он, батюшка, незримый с нами. Скушно и тебе, милый, а? Ну, ничего, косатик, обойдется… А мы молитовкой подгоняться станем, батюшка-то сказал, Варнава… нам и не будет скушно. Зачни-ка тропарек, Федя, – «Стопы моя направи», душе помягче.
Федя нетвердо зачинает, и все поем:
Стопы моя направи по словеси Твоему,
И да не облада-ет мно-о-ю-у…
Вся-ко-е… безза-ко-ни-и-е-э!..
Потукивает тележка. Мы тихо идем за ней.
Июнь, 1930 – декабрь, 1931 Париж – КопбретонДжогин П. П. На Валааме (фрагмент)
Гине А. В. Берег моря
В поминальном очерке – «У старца Варнавы» – рассказано, как сорок лет тому я, юный, двадцатилетний студент, «шатнувшийся от Церкви», избрал для свадебной поездки – случайно или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно: я вынес много впечатлений, ощущений – и вышла книжка. Эта первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги, давно разошлась по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом – не знаю; вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, – я отказался: слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так; но суть осталась и доныне: светлый Валаам. За это время многое переменилось и во мне, и вне. Россия, православная Россия – где? какая?! Да и весь мир переменился. Вспомнишь… а Троице-Сергиевская лавра? а Оптина пустынь? а Саров? а Соловки?!. Валаам остался, уцелел. Все тот же? Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился – время, новая судьба. Говорят, туристов принимает, европейцев. Это не плохо, и для него не страшно: «да светит миру». Как-то я читал в «Матэн» о Валааме. Журналист – француз, конечно многого не понял «в Валааме», но уважением проникся. Помню, писал: «своей идее служат… мужики-монахи». Не плохо, если «мужики» – идее служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Не плохо это. Да, стал другой немножко Валаам. Но жив и ныне. Раньше – жил Россией, душой народной. Ныне – Россия не слышна, Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиленья. Но он стоит и ныне, Светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он не был в ее границах: природа их объединила. Помню, сорок лет тому «полицейский надзор» над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был; такой же, как и они – суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, – крестьянский. Валаам остался на своем граните, «на луде», как говорят на Валааме, – на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненастье, с трудом – для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам поныне – светит. Афон – на юге, Валаам – на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», – нужны маяки. Я вспомнил светлую страницу – в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им послушание. И вот живые нити протянулись от «ныне» – к прошлому, это прошлое мне светит. В этом свете – тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, светлый.