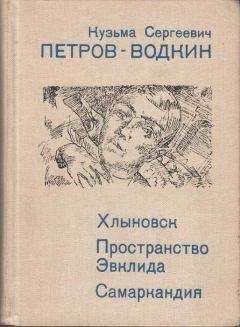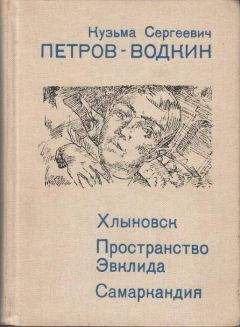— Мэ нон, мон вьё, — нет, старина, лучше будет так: вы утолите ваш голод, как бы то ни было, а я подожду лучшего состояния вашего кошелька, — не так ли?
После чудесного пот-о-фэ, яичницы с зеленью и бутылки красного Еина, которую мы распили с хозяином, мне море стало по колено.
Впоследствии, случаясь у вокзала, я заходил в кабачок этого эльзасца в память о первой встрече, которую он мне оказал.
Из таверны я направился куда глаза глядят. Идти по адресу ночью к незнакомому человеку мне было неловко. Шел прямо, не сворачивая, миновал дома и вышел за город. Пошел насыпью вдоль речушки, потом свернул в поле; выбрал под ногами углубление, положил ящик с красками под голову, завернулся в тигровый плед и заснул, соскучившись за последние дни по открытому небу.
Меня разбудили выстрелы. Я не сразу разобрался в том, где я нахожусь и без велосипеда.
Выстрелы говорили о недобром. Высунул я голову из ямки, в которой лежал, и моментально втянул ее обратно: я был на стрельбище военного поля и покоился в ложементе для мелкоокопной стрельбы.
Было пять часов, но чего пять часов, я не мог сообразить. Нащупать стрелкой часов страны света не было возможности по причине тучевого кеба.
Если это — утро, то должен быть у стрелков перерыв на завтрак, а если вечер — стрельба прекратится еще скорее. Высовываться сейчас из моего убежища, при всем моем нейтральном отношении к милитаризму, я счел нецелесообразным. Для предохранения себя от ненужных признаков, выкопал я возле себя перочинным ножиком ямку и зарыл в нее мой револьвер.
Стрельба прекратилась сразу. Полежал я еще на всякий случай с полчаса и высунул голову: поле было пустынно. Из-за стрельбищного вала сквозь облака брызнули лучи вечернего солнца. Вынул я из земли обратно мой вельдог…
Было половина седьмого, четырнадцатый день моего пребывания за границей.
Глава одиннадцатая
НЕМЕЦКИЕ АФИНЫ
Гоголь говорит, что русские лишены от природы база, на котором можно бы было все безопасно ставить и строить.
А.Иванов. Письма. 1845 год.
Тихий город-музей, как его Пинакотеки, был тогда Мюнхен. Самое окружение мягкостью гористых пейзажных форм с фермами и деревнями по берегам сизо-стальных озер дополняло мечтательное добродушие баварской столицы. Прекрасная сохранность архитектурных наслоений Мюнхена рассказывала наглядно историю оседавших в нем народностей. Если можно так выразиться: симпатичная ленца поэтизировала это благоустроенное жительство. Даже звуки «Гибели богов» Вагнера на площади ратуши умиротворялись этим окружением — не то монастырским, не то фольклорным. Монахи-основатели и бородастые, кровь с молоком, в зеленых шляпах с перьями, крестьяне, видать, дружно и долго лелеяли свою столицу, молитвами, пивом и молоком упитывая ее граждан: в Мюнхене я не встречал хилых и костлявых, за исключением иностранцев, еще не успевших откормиться или уже не поддающихся никакому откорму, английских старых дев с бедекерами в руках.
Мюнхен в это время был рассадником искусства, влиявшим на Москву, и потому среди художественной молодежи было много русских, да и вообще русская колония была обширной.
Мюнхен был в то время тем окопом, который задерживал просачивающееся в Восточную Европу влияние французской живописи с ее барбизонцами и понт-авенистами.
Мои мытарства закончились стрельбищным полем. Прямо с него я попал в русскую семью за самовар. Встречен я был как курьез. Целый вечер рассказывал о моих приключениях разнородному обществу соотечественников. Материально на первое время я был выручен дружной подпиской. Ашбе бесплатно разрешил мне работать в его мастерской, и мало-помалу потерял я своеобразный дорожный облик.
В первые ночи после стрельбища люди, приютившие меня, которых я будил моим бредом, рассказывали, что я всю ночь говорил на прекрасном немецком языке.
В мастерской Ашбе, невзирая на средней высоты уровень работающих, я увидел, что мне самому среди них похвастаться нечем. Правда, у меня был некоторый стиль в работе, характерный для школы Серова, ко я чувствовал, как мне было трудно по-настоящему развернуть изображение на холсте. Я стал присматриваться к окружающим. Здесь была молодежь скандинавская, немецкая, английская, русская и даже два японца, потерявших национальные приемы и очень нудно перенявших систему зрительных восприятий европейцев.
Самые талантливые люди в мастерской были и самые манерные. Они, правда, выбились из общего сходства со всеми, но в них чувствовались некоторая неискренность и признаки эпатирования товарищей. Налет на натуру и эффектный росчерк характеризовали их работы: стремление к проявлению собственной личности, казалось мне, обезличивало их, и для меня было большим вопросом, выбьются ли именно они на передовые позиции живописцев. Тут же были два-три человека, чрезвычайно коряво и трудно писавших; среди уймы ошибок, излишних нагромождений меня останавливало в их работах умение вскрывать в натуре такие новые ее свойства, которые для всех нас не были замечаемы. Русские в большинстве случаев как-то любительски и беспринципно отдавались влияниям Мюнхена, боязнь привезенного с родины провинциализма толкала их в другой провинциализм — на веру принятого немецкого модернизма. Но в защиту наших надо сказать, что само открещивание их от своего и исповедование нового, казалось мне, было у них сектантски-напряженным и честным.
Провинциализм, завезенный каждым из своей страны вместе с табаком и привычками, был общим несчастьем молодежи мастерской Ашбе. Особенно он был заметен в задних рядах безнадежно и беспросветно мучающихся над живописью девиц и юношей.
Еще был элемент среди работавших, болтавшийся между передними и задними, который баловался живописью, пристраивался к искусству. Это была общая всем мировым центрам молодежь, кочевавшая из гнезда в гнездо. Люди состоятельные и почему-то выбившиеся из отцовских профессий, после кутежей и флиртов, они везде являются к станкам за полчаса до окончания сеанса. У них удивительные, приспособленные к их безделью ящики красного дерева с механическими задвижками, наполненные тончайшими красками Виндзора Ньютона и ароматичными маслами и лаками. На их мольбертах холсты экстрафин, с начатками изящных шалостей карандашом либо кистью. Они неделями ждут вдохновения для работы, пока не сорвутся с этого местопребывания в новый уголок Европы, чтоб продолжать мотыльковую жизнь и злить нашего брата завистью к имеющимся у них полным возможностям для работы.
— Этот себя живописью не прокормит! — говорят о таких в Париже.
Но зато эти странствующие эстеты много прекрасных вещей говорят об искусстве: школы, направления, группировки они знают наизусть, они дают определения новейшим течениям, ими, думаю, и подвешиваются «измы» к нашему делу и к нашим исканиям.
При выскоке в свет какого-нибудь сногсшибательного журнала в Париже, в Берлине, в Лондоне мне всегда рисуется в качестве редактора аншеф такой международно натасканный молодой джентльмен: в кожаном кресле, заложивший ногу за ногу, с египетской сигаретой в зубах, вразумляет он нуждой втянутого к нему в кабинет настоящего работника по искусству…
Из русских, работавших в Мюнхене, поднимались тогда три звезды: Зедделер, Кандинский и Кардовский. Первый вскоре перебросится в Париж, перейдет на гравюру, придерживаясь образцов Хокусая, с трудом, но освободится от мюнхенского импрессионизма, а два последних продолжат и углубят заветы Мюнхена с овальной линией рисунка и с преломлением спектра на гранях формы.
Кардовский подойдет близко к новому петербургскому академизму, а на упрямо ищущем самодовлеющей живописи Кандинском Мюнхен отзовется трагичнее: его неразгоночностью цвета и неконструктивностью силуэта формы.
Рихард Вагнер вздернул на дыбы начинавшую впадать в декоративизм немецкую народную романтику; политическая и экономическая мощь Германии получила в «Кольце Нибелунгов» живое, грандиозное прошлое: Валгалла богов сошла на землю, Зигфрид заволновал весь цивилизованный мир: замерещился новый человек, выкованный земными недрами.
Искусство продолжало оформление нового человека.
Беклин, Штук и Ленбах были в эти дни китами, на которых держался Мюнхен. Их обаяние заливало в эти годы и нашу страну: «Война» и «Город мертвых» в бесчисленных репродукциях разбросились и до нашей провинции и развесились по комнатам передовой молодежи. Влиянием этих мастеров были охвачены и Скандинавские страны и Центральная Европа.
В Мюнхене я увидел их в оригиналах. Я увидел, что колорита их мы не знали в Москве. Бросился их изучать.
Замечательная выдумка, романтический юмор Беклина, его человечность, которою он наделял пейзаж, сирен, фавнов и центавров, не увязывалась для меня с его сырой, плохо положенной на холст краской: только бы краска напоминала море, деревья, тело, казалось, хотел мастер, но увязка их между собою, характеристика сюжета цветом не затрагивали его эмоции; сюжет у Беклина казался мне оголенным и чересчур наивно поднесенным зрителю, его можно было с таким же успехом передать на словах. Я не знал, чему мне от него как от живописца научиться, кроме настроения печали, юмора и общей человечности во взглядах, но ведь это будет похоже на то, как если бы я, изучая столярное искусство, слушал от столяра-мастера рацеи о хорошем обращении в обществе. Сцепления и союза по живописи с Беклином я не почувствовал. Мне грустно было расставаться с моей кормилицей, у которой не оказалось больше для меня молока.