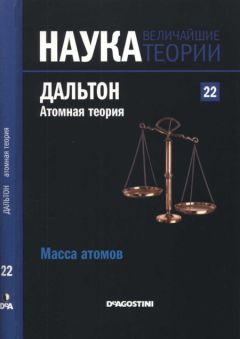парикмахером в детстве, поступил дурно и что история эта внесла хаос во всю книгу. И я начал даже считать, что включение таких побочных – по отношению к магистральному повествованию – сюжетных линий есть своего рода открытие, ибо жизнь человеческая не определяется исключительно событиями, в которых он участвует непосредственно. Случается и так, что элементы, не имеющие вроде бы отношения к его миру, в итоге могут объяснить его жизнь лучше, чем те, в которые он вовлечен и глубоко погружен.
Я припомнил, как впервые увидел нечто подобное в биографии одного художника. Много лет назад я прочел биографию Бодлера, которая начиналась с рождения его деда, а заканчивались через четыре года после его смерти и где особый раздел был посвящен заблуждениям Жанны Дюваль, возлюбленной поэта, на костылях бродившей по бульварам и разговаривавшей сама с собой. Уже тогда мне показалось интересным, что и эти самые заблуждения тоже были частью жизни Бодлера.
Бывает так, что фокус, смещенный в сторону или куда-то вбок, позволяет лучше высветить центральную сцену.
&
Я просыпаюсь и встаю, чтобы занести в дневник то единственное, что мне запомнилось из всего кошмара. И кто-то с замечательным упорством повторяет мне:
– Понимаешь, не часто бывает, чтобы человек читал историю, сочиненную соседом тысячу лет назад.
Сдается мне, что реальность не нуждается в том, чтобы ее организовывали ради сюжетной занимательности, она сама по себе очаровательный и неиссякаемый источник творческого воображения. Однако случается и так, что реальность отворачивается от этого источника, именуемого жизнью, и тщится облечь все происходящее в романную форму. И тогда я противлюсь, потому что не желаю, чтобы что-нибудь воспрепятствовало мне вести дневник, сопротивляюсь в таком же ужасе, который охватывал доктора Джекилла при виде мистера Хайда, когда он заметил, что доброе начало подавляется коварным незнакомцем, вселившимся в его телесную оболочку. Именно это случилось сегодня, когда реальность, использовав все подручные средства, задалась целью показать мне свою беспощадную машину вымысла, и это не давало мне покоя до тех пор, пока я не сдался и не повлекся навстречу скудному неоновому свету в глубине улицы, на которой расположен убогий бар «Трено».
Сколько же лет не ступала моя нога на мостовую этой зловещей улицы? А разве она находилась не в квартале Койот? Многие годы я избегал ее, имея на то веские резоны. Так или иначе, но неоновый свет средь бела дня привлек меня, и вскоре я уже обнаружил, что сижу в неуютном углу бара «Трено», самом просторном и вдобавок старомодном заведении Койота. Я зашел, чтобы выпить двойного кофе, в котором нуждался столь остро, что и секунды не потратил на поиски местечка попригляднее, тем паче что, по крайней мере, на этой улице такового не имелось.
Я выбрал столик в наименее привлекательной зоне: он стоял сразу за бесконечной древней стойкой, какими в былые времена оборудовались «Макдональдсы». Облюбованный мной столик был крайним в ряду тех, которые отделялись стеклянной матовой перегородкой от глубины зала, и потому тамошних посетителей было не видно, зато слышно прекрасно. И вот там-то я и устроился, не дав себе времени хотя бы на миг задуматься, не выйдет ли мне боком мой выбор, и сильно удивился, внезапно услышав из-за стекла противный, металлический и брюзгливый голос санчесова племянника.
О, господи, подумал я, не может этого быть. Племянник рассказывал двум барышням, как скверно идут дела в мире литературы, из которого бизнесмены изгоняют все, что им кажется чересчур сложным и перегруженным смыслом. «Мы попали в лапы чудовищ», – добавил он неожиданно и безапелляционно. И принялся объяснять разницу между автором бестселлеров, поверхностным как последний газетный писака, и писателем многозначным и глубоким, как, скажем… Мундиджоки.
Он сказал «Мундиджоки» или я так услышал. Быть может, он так же отличается от автора бестселлеров, как отличается писатель, знающий, что в хорошо сделанном описании есть и мораль, и желание сказать то, что пока еще не звучало, от автора бестселлеров, для которого язык – просто способ получения результата, и который использует одни и те же принципы и формулировки, призванные обмануть читателя. По счастью, есть еще авторы, завершил свою речь племянник, для которых именно борьба за создание новых форм неотделима от этического начала.
Это было немного похоже на Нагорную проповедь.
Однако проникнуться и уверовать было трудно, ибо звучали четыре замусоленных тезиса о состоянии индустрии культуры. Но две барышни были, судя по всему, очарованы тем, что излагал им мизантропствующий племянник. В конце концов, подумал я, придется допустить, что это работают на меня сотрудники Бюро Корретировки. Если бы это было так и если бы Бюро в самом деле существовало, пришлось бы признать, что работают они спустя рукава, потому что спич племянника-злопыхателя был, мягко говоря, очень фальшивым. И, словно ему мало было, помолчав немного, он заявил, что самые интересные люди на свете – те, которые никогда ничего не писали. Что ж тогда, спросил я себя, мы будем делать со всеми его мундиджоками?
Еще немного, и я вслух повторю этот вопрос из-за матового стекла перегородки.
Дальше было забавно. Мистически подсоединенный к заявлению в пользу тех, кто никогда ничего не пишет, с улицы донесся оглушительный вой сирены. И когда вновь стал слышен голос племянника, мне показалось, что все стало иным.
– Меня часто поносят, – негромко и печально говорил он, – но я не боюсь показываться таким, каков я есть. И презираю тех, кто хочет всегда выглядеть воспитанным и благоразумным и всякое такое… Я говорю, не задумываясь о последствиях. Меня не заботит, какое впечатление произведу. Хотя, признаюсь, сегодня утром я побрился, но это значит лишь, что я побрился, – тут он засмеялся или мне так показалось: издал такой певучий и несколько глуповатый смешок. – Я счастлив быть именно таким, а не каким-нибудь другим. Я ничего не боюсь. Понимаете меня, девушки?
Никто ему не ответил, и молчание соседок по столу ускорило ход событий. Племянник только что обнаружил свою истинную и единственную цель и теперь длинно и занудно описывал, какое празднество хочет устроить в своей норе. Тут уж мне стало совсем невмоготу, потому что мне оставалось только сидеть и подслушивать, как топорно он пытается заволочь в койку обеих сеньорит. В какой-то миг я перестал их слышать, а когда вновь включился, одна из них говорила:
– Пусть так, но мы все равно должны взять интервью у твоего дядюшки, ты должен нам помочь.
Дальше я слушать не хотел, все и так было ясно. Один