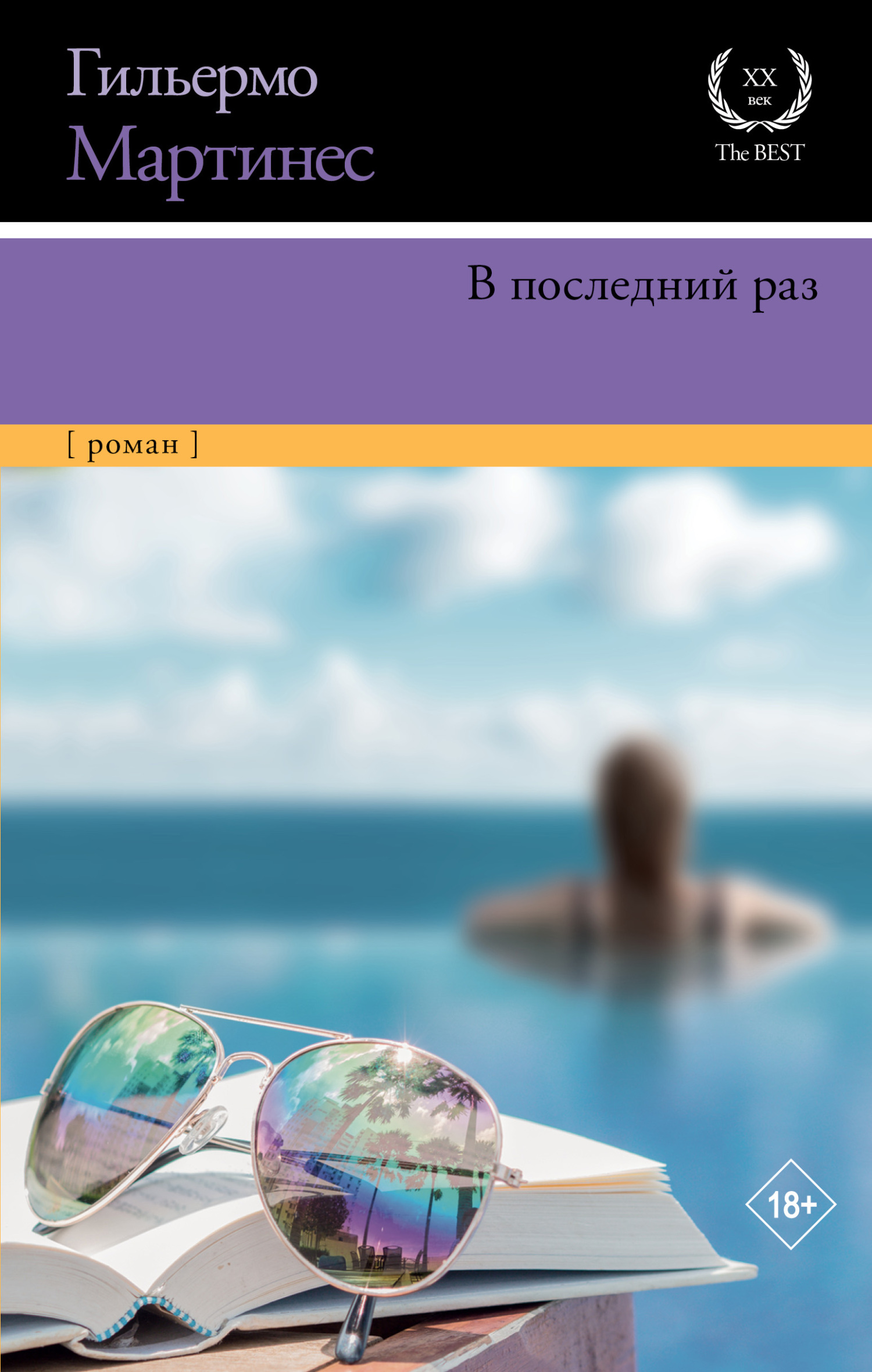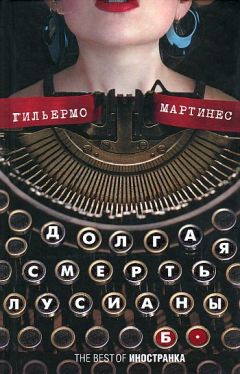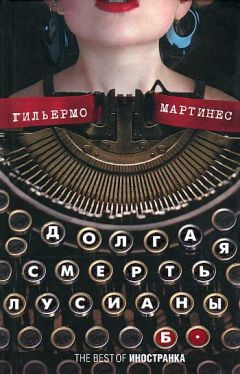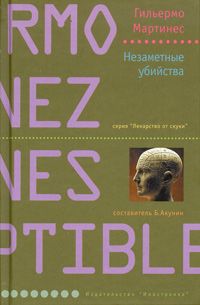прибавлять и прибавлять часы работы. И все-таки они шли вперед. А главное, пока профессор кивал или вертел головой, обозначая базовое различение, утверждение и отрицание, составляя головоломки из элементарных «да – нет», чтобы выстроить каждую фразу, на третий день его озарило: он нашел последний недостающий элемент. Озарение пришло посреди тряски головой по принципу Морзе, когда Лила перечитывала для последней проверки первую часть особенно длинной фразы. Идея, можно сказать,
всплыла из практики бинарных оппозиций, словно из водоносного слоя, который всегда находился близко, но, разумеется, как всякая новая идея, была частично облачена в одежды прошлого. Она являлась вариацией диаграмм из «Великого Искусства» Раймунда Луллия, впоследствии усовершенствованных Лейбницем в его комбинаторике концептов и атомизме монад, и в какой-то мере зарождения из простых высказываний семантики в пропозициональной логике. Все различения, догадался профессор, могли зародиться из дихотомии противоположностей, и, в свою очередь, каждое различение в пределе уступало место новой паре дихотомий. Таким образом, противоположности выступали в роли атомов, только что не были «заданы» или установлены, а зарождались в самом процессе постижения, из различений, из того «третьего», которое не могло покрыть собой продвижение на каждой стадии.
Профессор принялся созерцать это внезапное видение с изумлением и страхом, словно то был карточный домик, готовый рассыпаться, едва разум сделает шаг назад, чтобы оглядеть его целиком в его шатком равновесии. Однако домик устоял, и, заново запустив прогрессию, от первой пары, Бытие и Ничто, того самого fiat [11] Гегеля, он мог наблюдать, как возникали и проходили перед ним в чудесном новом порядке все категории. Он, не моргая, устремил взор в себя, туда, где беззвучно двигалась череда образов, немой фильм для единственного зрителя. Лила, следившая за еле заметным движением зрачков, увидела, как две слезы скатились по щекам из по-прежнему открытых глаз. Она нагнулась, чтобы вытереть их, и замерла, не смея дотронуться. Зрачки застыли, устремленные ввысь. Профессор скончался.
Этой лаконичной фразой завершался роман, и, хотя Мертон перевернул страницу, ожидая какого-то эпилога, за ней следовал последний чистый лист. Он откинулся на стуле, стараясь проникнуть в смысл подобного финала, припоминая все, что прочитал, как о том просил А. Эпилога не было, но зато был на первой странице эпиграф, который он пропустил, начав читать. Теша мелкое тщеславие критика, предпочитал с пренебрежением игнорировать авторские эпиграфы, эти указующие персты, позаимствованные, чтобы ткнуть носом в сближения и символы. Мертон вернулся к началу и прочитал. То была фраза из Теодора Адорно: «В философии следует, вопреки Витгенштейну, продолжать говорить все, чего нельзя высказать». Это чем-то поможет? Вряд ли. В финале романа теория профессора – решение загадки – осталась внутри его головы, ее оказалось «нельзя высказать». Должен ли он прочитать роман как свидетельство непреодолимого расстояния между созданным в уме и тем немногим, что можно восстановить или передать в письме? Как зал менин, созданный А., в котором видны лишь неясные контуры разбитого лабиринта поисков? Как вариацию фразы Честертона о неисчислимых оттенках человеческой души, «столь же невыразимых, как цвета осеннего леса», и о скудной, ограниченной механике рыка и визга, какой является язык? Или подобный финал – намек на отчаяние А., на собственную болезнь, его последний раз, ведь то, что он хотел сказать, что пытался «продолжать говорить», никто, возможно, так никогда и не прочитает?
Вскоре Мертон спохватился, что уже стемнело, а он должен покормить собаку. Он направился в сад, но не обнаружил ее ни на галерее, ни под дверью. Заглянул в сарай, где обычно псина спала, но и там ее не было. Позвал раз, другой, все громче и громче, но она не явилась. Наконец нашел: собака свернулась клубком около ворот, просунув морду на улицу сквозь проволочное заграждение, словно надеясь учуять в безбрежном внешнем мире возвращение хозяев.
На следующее утро, когда Мертон проснулся и выглянул в окно кабинета, ничего не изменилось: дом стоял пустой и закрытый, сад словно замер, лишь ветер посвистывал в роще у ворот. Он сварил себе кофе, подкрепился чем-то, что нашел в кухонных шкафах, и отправился на поиски Саши. Собака по-прежнему стоически караулила около ворот. Мертон привел ее в сарай, насыпал корму, а вернувшись в кабинет, положил в рюкзак рукопись А. вместе со списком, который принесла Мави. Поколебавшись, добавил стопку романов А., оставленную Морганой на письменном столе. Когда Мертон взвалил рюкзак на плечи, от тяжести свело лопатки. Вот, подумал он, теперь приходится таскать А. на горбу. Во всяком случае, монастырь находился действительно близко, и через несколько минут Мертон уже стоял у каменной лестницы, ведущей ко входу.
Сторож из своей будки оглядел его недоверчиво, едва распознал аргентинский акцент. Библиотека, заявил он, закрыта для публики, она не относится к тем местам в монастыре, которые можно посещать, и, в любом случае, у него должно быть разрешение на вход. Мертон, предпочитавший вообще не лгать, заверил, что сам А. послал его сюда изучить подчеркнутые места и заметки на полях в его книгах. Заявил, что сегодня же вечером возвращается в Аргентину. Он, разумеется, мог и приврать, если дело не касалось литературы, и наконец, словно выстрел наугад в тумане, произнес имя Нурии Монклус. Вероятно, неколебимая уверенность, с какой Мертон произнес это имя, будто речь шла о самой королеве Элисенде – основательнице монастыря, заставила сторожа снять телефонную трубку и спросить совета. Повесив трубку, он неохотно пропустил Мертона, объяснил, как пройти к кабинету директрисы, добавив, что она сама отведет его в библиотеку.
Мертон зашагал по дорожке, пересекавшей монастырские сады, обогнул двойное надгробие королевы – с одной стороны она представала покрытая драгоценностями и в короне, с другой – в облачении кающейся монахини, – а когда сторож крикнул, что он идет не туда, вернулся и направился к величественной двухъярусной галерее, где располагались офисы. Не успел Мертон отыскать вход, как навстречу ему вышла монахиня, в руках у нее был большой, старинный, железный ключ. Пожилая, она двигалась проворно, и глаза за стеклами круглых очков были живыми и проницательными. Она встретила Мертона радушной улыбкой, словно желая, чтобы он забыл о неприятной сцене около входа.
– Ну, раз ты соотечественник А., и Нурия Монклус тебя послала посмотреть книги, не о чем говорить, сделаем исключение, тем более, что никто и не заходит в эту библиотеку. Следуй за мной, пройдем через зал аббатисы.
Они миновали зал, похоже, заброшенный, где мебель была придвинута к стенам. Их шаги шелестели, отдаваясь приглушенными отголосками, будто шествовала целая процессия. Затем поднялись по мраморным ступенькам, изъеденным временем, и оказались