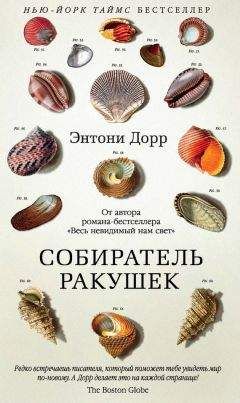По утрам Григорий нянчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору. На людях ему было веселее.
Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что во время выпивки об этом неизбежно будет идти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком.
Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и в связи с этим трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух продотрядников отправили в Вешенскую.
На следующий день возле лавки ЕПО Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной Армии бывшего батарейца Захара Крамскова. Он был преизрядно пьян, покачивался на ходу, но, подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал:
– Здравия желаю, Григорий Пантелевич!
– Здравствуй. – Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз, батарейца.
– Угадываешь?
– А как же.
– Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго. Сколько мы тогда красных положили – страсть! Один раз на удар давали, другой раз шрапнелью… Это я наводчиком у первого орудия работал! Я! – Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди.
Григорий покосился по сторонам, – на них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые плотные зубы.
– Ты пьяный, – сказал он вполголоса, не разжимая зубов. – Иди проспись и не бреши лишнего.
– Нет, я не пьяный! – громко выкрикнул подгулявший батареец. – Я, может, от горя пьяный! Пришел домой, а тут не жизня, а б…! Нету казакам больше жизни, и казаков нету! Сорок пудов хлеба наложили, это – что? Они его сеяли, что накладывают? Они знают, на чем он, хлеб, растет?
Он смотрел бессмысленными, налитыми кровью глазами и вдруг, качнувшись, медвежковато облапил Григория, дохнул в лицо ему густым самогонным перегаром.
– Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пус-тим! Лапушка моя, Григорий Пантелевич! Перевоевать надо! Скажем, как в прошлом годе: долой коммунию, да здравствует Советская власть!
Григорий резко оттолкнул его от себя, прошептал:
– Иди домой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что́ ты говоришь?!
Крамсков выставил вперед руку с широко растопыренными обкуренными пальцами, бормотнул:
– Извиняй, ежели что не так. Извиняй, пожалуйста, но я тебе истинно говорю, как своему командиру… Как все одно родному отцу-командиру: надо перевоевать!
Григорий молча повернулся, пошел через площадь домой. До вечера он находился под впечатлением этой нелепой встречи, вспоминал пьяные выкрики Крамскова, сочувственное молчание и улыбки казаков, думал: «Нет, надо уходить поскорее! Добра не будет…»
В Вешенскую нужно было идти в субботу. Через три дня он должен был покинуть родной хутор, но вышло иначе: в четверг ночью, – Григорий уже собрался ложиться спать, – в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель.
– Братушка…
– Что? – тихо спросил он, надевая в рукава шинель.
Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала:
– Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице… Они говорили шепотом, но я слыхала… Стояла под дверью и все слыхала… Михаил говорит – тебя надо арестовать… Рассказывает им про тебя… Уходи!
Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку:
– Спасибо, сестра! Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай. – И повернулся к Аксинье: – Хлеба! Скорей! Да не целый, краюху!
Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь… Он действовал как в бою – поспешно, но уверенно; прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью.
– Прощай! Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят – скажи, ушел в Вешки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! – Целуя ее, он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез.
Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие его руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с Дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой.
Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория. И каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хрястнул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за Доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу.
Поздней осенью 1920 года, когда в связи с плохим поступлением хлеба по продразверстке были созданы продовольственные отряды, среди казачьего населения Дона началось глухое брожение. В верховых станицах Донской области – в Шумилинской, Казанской. Мигулинской, Мешковской, Вешенской, Еланской, Слащевской и других – появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом кулацкой и зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов, на усилившиеся мероприятия Советской власти по проведению продразверстки.
В большинстве своем банды – каждая численностью от пяти до двадцати штыков – состояли из местных жителей-казаков, в прошлом активных белогвардейцев. Среди них были: служившие в восемнадцатом-девятнадцатом годах в карательных отрядах, уклонившиеся от сентябрьской мобилизации младшего командного состава урядники, вахмистры и подхорунжии бывшей Донской армии, повстанцы, прославившиеся ратными подвигами и расстрелами пленных красноармейцев во время прошлогоднего восстания в Верхне-Донском округе, – словом, люди, которым с Советской властью было не по пути.
Они нападали на хуторах на продовольственные отряды, возвращали следовавшие на ссыппункты обозы с хлебом, убивали коммунистов и преданных Советской власти беспартийных казаков.
Задача ликвидации банд была возложена на караульный батальон Верхне-Донского округа, расквартированный в Вешенской и в хуторе Базках. Но все попытки уничтожить банды, рассеянные по обширной территории округа, оказались безуспешными – во-первых, потому, что местное население относилось к бандитам сочувственно, снабжало их продовольствием и сведениями о передвижении красноармейских частей, а также укрывало от преследования, и, во-вторых, потому, что командир батальона Капарин, бывший штабс-капитан царской армии и эсер, не хотел уничтожения недавно народившихся на верхнем Дону контрреволюционных сил и всячески препятствовал этому. Лишь время от времени, и то под нажимом председателя окружного комитета партии, он предпринимал короткие вылазки – и снова возвращался в Вешенскую, ссылаясь на то, что он не может распылять сил и идти на неразумный риск, оставляя без должной охраны Вешенскую с ее окружными учреждениями и складами. Батальон, насчитывавший около четырехсот штыков при четырнадцати пулеметах, нес гарнизонную службу: красноармейцы караулили арестованных, возили воду, рубили деревья в лесу, а также собирали, в порядке трудовой повинности, чернильные орешки с дубовых листьев для изготовления чернил. Дровами и чернилами батальон успешно снабжал все многочисленные окружные учреждения и канцелярии, а тем временем число мелких банд по округу угрожающе росло. И только в декабре, когда началось крупное восстание на территории смежного с Верхне-Донским округом Богучарского уезда Воронежской губернии, поневоле прекратились и заготовка лесоматериалов, и сбор чернильных орешков. Приказом командующего войсками Донской области батальон в составе трех рот и пулеметного взвода, совместно с караульным эскадроном, 1-м батальоном 12-го продовольственного полка и двумя небольшими заградительными отрядами, был послан на подавление этого восстания.
В бою на подступах к селу Сухой Донец вешенский эскадрон под командованием Якова Фомина атаковал цепи повстанцев с фланга, смял их, обратил в бегство и вырубил при преследовании около ста семидесяти человек, потеряв всего лишь трех бойцов. В эскадроне, за редким исключением, все были казаки – уроженцы верховых станиц Дона. Они и здесь не изменили вековым казачьим традициям: после боя, несмотря на протесты двух коммунистов эскадрона, чуть ли не половина бойцов сменила старенькие шинели и теплушки на добротные дубленые полушубки, снятые с порубленных повстанцев.