Царица заволновалась.
И как это ей самой до сих пор не пришло в голову. Ведь и то правда!
– Смотри в оба! – между тем говорил царь. – Чтобы хо рошенько следили за этой Машуткой, и как только что – не покрывать ее! Да и что за приятельство между нею и нашей дочкой?… Ох, тяжко мне! – вдруг простонал он, хватаясь за грудь, и замолчал.
Царица тоже ничего не говорила.
Так прошло несколько минут. Царь задремал.
В это время в укромном уголке царицына терема, в опочивальне царевны Ирины, происходила тоже беседа, горячая и быстрая, под страхом, что кто-нибудь придет.
Царевна говорила Маше:
– Ну что ты мне душу надрываешь, Машуня, чего ты меня успокаиваешь? Что ты твердишь мне, зачем я худею да скучаю? С чего же мне радоваться? Вся жизнь опостылела. Да и на себя посмотри, та ли тоже и ты, что была прежде?
Действительно, за этот год большая перемена произошла в обеих девушках. Обе они созрели, обе похорошели, но при этом вид их был печален, не тот, что прежде. Даже Маша уже не казалась бесенком. В ее больших темно-серых глазах явилось совсем новое выражение. Она теперь слушала царевну и вздыхала.
– Подумай только, ведь целый год прошел с того далекого вечера, – продолжала Ирина, – целый год я его не видала! И не было за это время не только дня, но и часу, чтобы не думала я о нем, не вспоминала. На миг один он был со мною, но кажется мне, будто весь век его знала и любила!..
Маша вздохнула при этом еще глубже.
«А я… – мелькнуло в ее мыслях, – ведь и со мной то же. Кабы она знала… только никто о том и никогда не узнает!..»
– А он… что с ним? – жаловалась царевна. – Ведь вот уж сколько времени мы ничего, как есть ничего про него не знаем. На Москве ли он еще или уже уехал?
– Ну, это-то мы знаем, – перебила Маша. – Говорят, вот и хочет уехать, да держат его, не пускают, в плену он… и все из-за своего упрямства…
– Да вот видишь! А ты тогда что говорила?
– Что же я говорила, царевна?
– Забыла, видно!.. Я-то не забыла. Ты ведь уверяла меня, что стоит ему повидаться со мною – и он откажется от своей еретической веры и крестится в веру православную.
– Да, это точно я говорила, – вспомнила Маша, – так и теперь повторяю то же. Сама поразмысли: кабы ты его попросила хорошенько, он бы и не смог отказать тебе, а ведь виделись вы тогда всего на одну малую минутку, ни слова не сказали друг другу.
Царевна покачала головой и горько усмехнулась.
– Нет, Машуня, видно, я ему пришлась не по нраву. Кабы так полюбил он меня, как я его полюбила, не выждал бы он этого долгого, тяжкого года; кабы любил он меня – не стал бы упрямиться. Он и думать обо мне позабыл, одно только и в помышлении у него, как бы выбраться отсюда скорей в свою басурманскую землю. Видно, там девицы лучше меня, больше ему по вкусу!..
– Ах, нет, нет, не говори так, царевна! Что такое мы знаем? Может, он истомился пуще нашего… пуще твоего, – поправилась Маша.
– Да пойми ты, пойми, Машуня, не могу я так больше жить – тошно мне, душно! Уж хоть бы один конец, а то что ж это такое?
Царевна замолчала и, не в силах будучи совладать с собою, залилась горькими слезами.
Маша глядела на нее каким-то особенным пристальным, странным взглядом, и все больше и больше сдвигались ее тонкие брови. Она, видимо, решилась на что-то. Вдруг она тряхнула своей русой головкой, в глазах ее загорелся прежний огонек.
– Ныне же я попытаюсь его увидеть, – прошептала она, бледнея и чувствуя, как от одной мысли об этом свидании застучало, забилось ее сердце, но не от страха, не от робости…
Остановились царевнины слезы, поднялась она с места, ухватила Машу руками. На лице изобразился ужас, но и в самом этом ужасе как бы светилась надежда.
– Что ты? Что ты? Опомнись! – шептала она. – После того, что было?… О двух ты головах, что ли?
Усмехнулась только Маша и тряхнула своей густой косой.
– Голова-то у меня одна, да и той не больно-то жалко. Коли пропадет – туда и дорога. Да нет, зачем пропадать.
– Ведь следят за тобою, Машуня, по пятам следят, сама знаешь, да и я знаю, ведь уж как помог только Бог тебя от напраслины отстоять, от пытки избавить, а тут ты сама так прямо в руки своим злым ворогам и лезешь. Нет, нельзя этого – нечего и думать!
Но по лицу Маши царевна видела, что она вовсе не желает отступиться от своего безумного плана. Вздохнула царевна.
Боже милостивый! Чего бы ни дала она, чтобы иметь возможность согласиться на предложение подруги! Но согласиться нельзя. Тоскует и сохнет она по королевичу, только ведь от этого ей не меньше жаль Машу, не меньше от этого она ее любит и за нее страшится.
Поборола она в себе искушение и твердым, строгим голосом проговорила:
– Машуня, чтобы об этом не было между нами речи больше, я тебе запрещаю, слышишь!
– Слышу, царевна, – проговорила Маша, – твоя воля!
Вошли боярышни и оттеснили Машу от царевны. Ушла Маша к себе в свою светелку, присела у окошечка, распахнула его. День чудесный, жаркий и солнечный, точь-в-точь такой же, какой был тогда, год тому назад. Под окошечком густая зелень; за деревьями виднеется забор знакомый, а там за ним, за этим забором, тоже знакомая, памятная дорога.
«Боится… за меня боится, – думает Маша, – добрая она. Ведь кабы не она, не ее любовь ко мне, где бы я теперь была? Королевич!..»
И вдруг она вздрогнула, и горячая краска залила ее щеки. Так живо, живо, будто сейчас это было, припомнила она тот вечер, когда спрыгнула она с забора у него в саду, а он ее обнял, целовал, целовал… Никогда за весь год не вспоминалось это так живо!
Увидеть его, заглянуть ему в ясные очи, услышать его голос…
«Она боится… Будь она Машуткой – не пошла бы, ну а я пойду… пойду для нее и скажу ему: „Королевич, сдавайся – царевна тебя любит, царевна ждет тебя“. Скажу, взгляну на него, и пусть меня пытают… умру, о нем думая! Вот так подумать, так себе представить… чтобы и смерти не заметить!..»
Долгим, долгим показался этот день для Маши; солнце будто поддразнивало ее, не спешило закатываться, стояло и палило землю своими летними лучами.
Бродила Маша по терему, все высматривала, выслушивала. Положение ее в тереме теперь незавидно. Кабы не царевна, давно бы уж бежала она куда глаза глядят. Все-то от нее отворачиваются, слова ей по-человечески не скажут, а заговорят – сейчас попреки, брань, воровкой называют, колдуньей… Сколько слез пролила она из-за обид этих! Но теперь ей все равно, брани и обижай ее кто хочет – ничего этого она не замечает, – все люди, все в мире исчезло для нее, не существует… лишь бы скорее вечер…
Настал наконец этот мучительно ожидавшийся ею вечер. Потемнел терем, зажглись огни. Скользнула Маша в сад, крадется по дорожке к забору, вот уж добралась до того места, где в прошлом году перелезала. Вся она горит, бьется в ней каждая жилка, и не слышит она в своем волнении, что по пятам за нею крадется кто-то.
Она у забора. Уже ухватилась рукою за выдвинувшееся бревно.
– Так я и знала! Ах ты поганая девчонка! Ах ты колдунья негодная! За старое? Ну уж теперь не отвертишься, уж теперь не уйдешь от пытки, ни царевна, ни царица за тебя не заступятся! Царица-то вон строго-настрого приказала не упускать тебя из виду… Так еще не забыла старого! Опять к дружку милому, к вору пробираться!
Все это, шипя и задыхаясь от злобы, быстро выкрикивала Пелагея, ухватывая Машу и оттаскивая ее от забора.
Но первое мгновение неожиданности и ужаса уже прошло, страшная злоба подступила к сердцу Маши, вывернулась она, изо всей что было мочи ударила кулаком Пелагею – куда и сама не знала. Пелагея дико вскрикнула, выпустила ее из рук и упала на землю.
«Батюшки, уж не убила ли я ее?» – мелькнула мысль у Маши, но тотчас же забылась. В один миг она была на заборе, перелезла на ту сторону и пустилась бежать, как стрела.
Быстро добежала она, едва переводя дыхание, до забора королевичева сада, огляделась – нет никого… Только что это: забор-то ведь не тот! Прежде был низенький, в этом месте бревна старые разошлись, повылезли, ничего не стоило на них вскарабкаться, а теперь стоит новый да высокий. Попробовала на него лезть Маша – не может, дрожит вся, в руках, в ногах силы нет. Села она у забора и горько заплакала, как не плакала ни разу в жизни.
Что же теперь будет с нею?
Слышала она, что денно и нощно караулы стрелецкие кругом всего двора королевичева ходят, вот уж и забор новый поставили, – крепко стерегут королевича. Найдут ее стрельцы, поймают, надругаются только над нею, и пропадет она навеки, и не узнает, не услышит о ней королевич. Назад бежать
– так ведь там что она наделала? Пелагея-то, чай, уж подняла на ноги весь терем.
А ну коли она и впрямь убила Пелагею? Ох, от одной мысли вся теперь она похолодела. Нет, ни за что, ни за что не вернется она в терем.
Долго сидела Маша и плакала, выплакала все свои слезы. По счастью, стрельцы не проходили, не нашли ее. Отдохнула она, собралась с силами и опять полезла на забор.
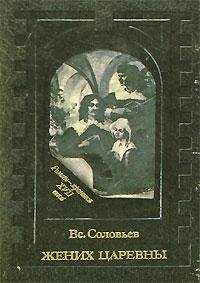
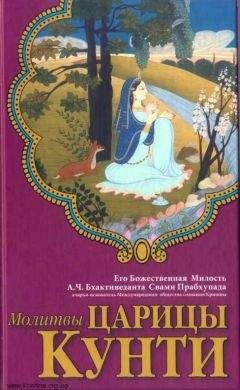


![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)
