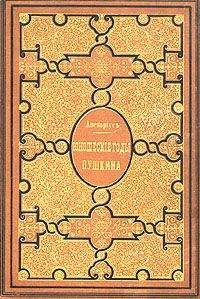На следующее утро в Петербург поскакал нарочный с донесением от Гауеншильда; а на третий день в Царское прибыл сам министр, граф Разумовский. Трем «зачинщикам» был сделан строгий выговор, а проступок их был передан на решение конференции профессоров. Решение состоялось такое:
1) Две недели провинившимся стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы.
2) Пересадить их за столом на последние места.
3) Занести их фамилии в черную книгу.
Все три пункта были исполнены в точности. Две недели подряд, изо дня в день, наши три приятеля выстаивали молитву на коленях. За едой им были отведены самые невыгодные места в конце стола, где кушанье подавалось после всех; но так как, вообще, воспитанники рассаживались по поведению, то вскоре оштрафованные имели возможность подвинуться вверх. Относительно черной книги, которая должна была иметь значение при выпуске из лицея, мы скажем подробнее в свое время, в одной из последующих глав.
Но более, чем зачинщики, более даже, чем бравый старик покровитель их обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский, пострадал его подчиненный, младший дядька Фома. От погребщика, у которого была добыта им злосчастная бутылка рому, пронырливый Сазонов разведал, кому она была отпущена. В тот же день и час Фома должен был навсегда убраться из Царского. Однако еще до его ухода лицеисты старшего курса, прослышав о постигшей его беде, сделали посильную складчину, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить беднягу за потерю места.
В средних числах января 1816 года Гауеншильд, по собственной его усиленной просьбе, был также уволен от обязанностей директора, и временное «директорство» было возложено на Фролова, который успел уже зарекомендовать себя энергией и распорядительностью.
"Директорство" Фролова длилось не более двух недель, но оно надолго осталось памятным лицеистам. Первым делом его было назначение Сазонова старшим дядькой и обер-провиантмейстером.
Отозвалось это назначение на лицеистах особенно чувствительно потому, что они сговорились никаких лакомств у этого «фискала» не покупать и, таким образом, добровольно приговорили себя к голодовке на неопределенное время.
Далее, Фролов признал нужным подвергнуть их везде и во всем самому строгому надзору. Так, гулять их водили не иначе, как под двойным конвоем; отлучаться в свои дортуары они могли только по особым билетам; даже газеты и журналы попадали к ним в руки не ранее, как после самой тщательной цензуры со стороны гувернеров, которые должны были вырезывать все «нецензурное». За столом воспитанников рассаживали, как уже сказано, по поведению, вследствие чего у них сложилась даже поговорка:
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.
Карцер ни одного дня почти не пустовал, а лицеисты младшего курса за всякую провинность, смех или громкое слово простаивали по часам на коленях.
Порядок, казалось, был окончательно восстановлен. И вдруг… вдруг по лицею пронеслась почти невероятная, ужасная весть, которая перевернула все вверх дном. Недалеко от лицея было совершено зверское убийство: старик разносчик и находившийся при нем мальчик были найдены плавающими в крови, а за ближней оградой был отыскан окровавленный топор. По топору напали на след убийцы. И кто же оказался им?
Не кто иной, как вновь возведенный в старшие дядьки Сазонов, который, как вскоре потом было дознано, и прежде этого уже имел на своей совести не одну человеческую душу. Само собой разумеется, что преступник был отдан в руки правосудия.
Но случай этот дал последний толчок «междуцарствию». Прибывший тотчас же в Царское Село министр был, прежде всего, неприятно поражен представившейся ему в рекреационном зале картиной: чуть ли не весь младший курс в две шеренги стоял там на коленях.
— Это что за комедия? — нахмурясь, спросил министр.
— Проштрафились, ваше сиятельство, — отвечал почтительно Фролов. — Смею доложить…
Граф сделал нетерпеливое движение.
— У вас здесь, видно, повальное непослушание?
— Точно так-с: повальная болезнь. Одно средство: военная муштровка. Ежели бы ваше сиятельство соизволили разрешить ввести поротное обучение воинским артикулам, маршировку в три приема…
Министр так выразительно отмахнулся, что надзиратель замолк на полуфразе.
— Встаньте, господа! — обратился граф Разумовский к мальчикам. — Я возлагал всегда большие надежды на лицей, я любил лицеистов как собственных детей; а теперь, господа, — теперь я, видите, краснею за своих детей! Надеюсь, что никого из вас я уж никогда больше не увижу в этом униженном положении.
Добрые слова министра оказали на мальчуганов большее влияние, чем вынесенное ими наказание. По крайней мере, редкий из них после того стоял еще на коленях. А скоро и надобность в том миновала: 27 января 1816 года в лицей был назначен наконец постоянный, «настоящий» директор в лице Энгельгардта, директора петербургского педагогического института.
Фролов номинально хотя и продолжал числиться еще надзирателем, но совсем стушевался, а в начале следующего, 1817 года и вовсе оставил службу. Но некоторые черты его двухнедельного управления сохранились в новой "национальной песне", которую воспитанники часто потом распевали хором. Вот несколько куплетов этой нехитрой песни:
Детей ты ставишь на колени,
От графа слушаешь ты пени…
По поведенью мы хлебаем,
А все молитву просыпаем…
Наверх пускал нас по билетам,
Цензуру учредил газетам…
Очистил место Константину,
Леонтья чуть не выгнал в спину…
Очень может быть, что и Пушкину принадлежит тот или другой куплет. Гораздо менее вероятно участие его в небольшой поэме «Сазоновиада», появившейся в последнем номере "Лицейского мудреца" за 1815 год, крайне слабой по конструкции стиха.[37] Зато несомненно, что междуцарствие подало Пушкину мысль к басне о грешной душе, переходящей из рук в руки, от одного черта к другому. Басня эта, как и многие другие юношеские опыты его, затерялась. Наконец, на Сазонова он написал еще эпиграмму, в которой кстати задел и добрейшего доктора Пешеля:
Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! Остался я живым,
Но был уж смерти под косою;
Сазонов был моим слугою,
А Пешель лекарем моим!
Глава XV
Директор Энгельгардт
Лишь только Анджело вступил во управленье,
И все тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло…
"Анджело"
Хотя назначение Энгельгардта директором лицея состоялось еще в январе 1816 года, но сдача им своему преемнику прежней своей должности — директора педагогического института — задержала его в Петербурге до первых чисел марта. Из присланного между тем в правление лицея формулярного списка нового директора лицеисты уже знали: что он родился в Риге в 1775 году (стало быть, ему было с небольшим 40 лет); что он воспитывался в Дерптском университете и что еще молодым человеком 26 лет он был назначен помощником статс-секретаря государственного совета, а последние четыре года был начальником педагогического института. Насколько лицеисты были заинтересованы его личностью, видно из следующих строк Илличевского к петербургскому школьному другу своему Фуссу, писанных 17 февраля 1816 года:
"Благодарю тебя, что ты нас поздравляешь с новым директором; он уже был у нас. Если можно судить по наружности, то Энгельгардт человек не худой. Vous sentez la pointe (Понимаешь соль)? Не поленись написать мне о нем подробнее; это для нас не будет лишним. Мы все желаем, чтоб он был человек прямой, чтоб не был к одним Engel (ангел), а к другим hart (строг)".
Опасения лицеистов были напрасны. С первого же дня Энгельгардт, очень опытный педагог, поставил себя как к прочему служебному персоналу, так и к воспитанникам в самые правильные отношения. С профессорами он сошелся как с старыми знакомыми, потому что присутствовал еще в 1811 году на акте открытия лицея и, выпросив себе тогда у Куницына копию с произнесенной последним блестящей вступительной речи, в тот же вечер перевел ее на немецкий язык, а затем, вместе с объяснительною к ней статьею, напечатал в "Дерптском журнале". Но так как он, с чисто немецкою аккуратностью, все время свое, с утра до ночи, посвящал вверенному ему заведению, то и профессора, на лекции которых он часто заглядывал, поневоле должны были сами «подтянуться» да и «подтянуть» учеников. Но, странно, лицеисты почти не чувствовали наложенной на них узды; не чувствовали потому, что узда эта служила Энгельгардту не столько для сдерживания, сколько для направления пылкой молодежи.
— Школа должна быть для ученика родным домом, — говаривал он, — чем более разумной свободы, тем более и самостоятельности, сознания собственного достоинства.