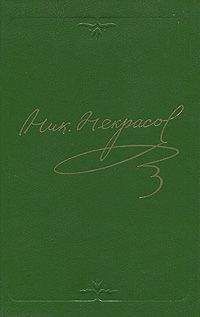Камердинер, с шумом раскрыв дверь, возвестил прибытие Любской. Калинский с минуту оставался как бы пораженным, потом радостно кинулся к ней и, усаживая ее на диван, воскликнул:
— Боже! чему я обязан счастьем видеть вас у себя?
— Я думаю, очень обыкновенному случаю для вас: я, как и другие, приехала к вам с просьбой, — отвечала Любская.
— Приказывайте! — наклонив почтительно голову отвечал Калинский.
— Я прошу вас определить очень хорошенькую девочку.
Калинский задумался.
— Я вас умоляю, — не без кокетства произнесла Любская: она жаждала случая хоть чем-нибудь отмстить своей сопернице.
— О! для вас я готов изменить своему слову! — восторженно воскликнул Калинский.
— Поверьте, что совесть ваша будет вознаграждена: вы сделаете истинно доброе дело.
— Я забуду всё, чтоб угодить вам. Это цель моей жизни…
Калинский остановился, заметив легкое содрогание Любской, которая гордо взглянула на него; с минуту они пытливо глядели друг на друга.
— Вы сердитесь на меня? — спросил Калинский.
— Кто? я? за что? вы опять заговорили по-старому? — покойно отвечала Любская.
— Нет!
— За письмо?..
Любская засмеялась.
— Как вы веселы! — с удивлением заметил Калинский.
— Отчего же мне скучать?.. Я окружена людьми, которые заботятся обо мне, исполняют мои…
— О, я вижу, вы по-прежнему меня не понимаете и всё толкуете в дурную сторону…
— Мое мнение изменится, если вы исполните мою просьбу.
— Для этого я готов принести всё в жертву!
Любская встала.
— Вы бежите, — с грустью заметил Калинский.
— Вы, кажется, были заняты: я боюсь…
— Как вы злы! неужели вы не знаете, что вас видеть для меня…
— А много говорит ваш попугай? — перебила его Любская.
— Он забавен, а главное — ужасно привязан ко мне; впрочем, я любим всеми, кроме…
— Вы, как Робинзон, окружены зверьми, — сказала Любская, указывая на собаку.
— Да, это верное животное и очень привязанное ко мне.
— Зачем же она на веревке? — спросила Любская.
Калинский смешался, но тотчас же отвечал с приятной улыбкой:
— Она ревнива ко мне.
Любская улыбнулась, попросила, чтоб отвязали собаку, и сказала:
— Я вас уверяю, она ничего не сделает, по крайней мере мне.
Не скоро удалось Калинскому освободить свою собаку: она не давалась ему, и когда наконец ошейник был снят, кинулась под диван и заворчала.
Любская кусала губы от смеху, потому что Калинский весь побагровел, нежными словами выманивая собаку, которая рычала всё сильнее; попугаи присоединился к ней своим криком.
— Они сегодня меня бесят! впрочем, это понятно: они никогда не видали у меня в кабинете дамы.
— И потому их ревность не имеет границ, — перебила Любская и, еще раз повторив просьбу свою, раскланялась и вышла.
Экипаж ее не успел еще отъехать от крыльца, как по всей квартире Калинского раздался вой собаки и крики попугая.
Калинский сердито кричал своему камердинеру, тащившему собаку за шиворот из-под дивана:
— Скажи собачнику, что гроша не дам, если не приучит ее лежать на подушке без привязи и не отвадит лазать под диван.
И он принялся наказывать вызолоченной палочкой своего попугая.
По возвращении домой душевное напряжение Любской разрешилось отчаянием, которое не было тихо и безвыходно: нет! рыдания ее были гневны; краска на лице, взгляды и движения доказывали, что для ее горя есть еще облегчение; известно, что ничего нет страшнее тихой скорби.
Любская написала к Дашкевичу письмо и приказала отдать, когда он приедет, а сама заперлась в спальне.
В то самое время, когда для Любской всё окружающее казалось печальным и мрачным, прачка находилась наверху блаженства: Семен Семеныч явился к ней с извещением, чтоб она везла Катю в ученье. Прачка бросила недоглаженную юбку, ахала, смеялась, кидалась во все углы, собирая узелок для своей дочери, и поминутно восклицала:
— Господи! господи! чем я ей заслужу?
Или:
— Вот и моя Катя будет в карете ездить и шелковые платья носить!!
— Я приду домой завтра? — приставала Катя к матери с вопросами.
— Глупенькая, скорее надень чистые чулки да пойдем проститься к верхней барыне.
— Я надену и новый платочек?
— Да, да! Куприяныч! попотчуй водочкой-то Семена Семеныча!
И прачка сунула в руку камердинеру красную бумажку.
Он с любезностью поклонился.
— Ну, прощайте, — сказала прачка.
— С богом-с, — отвечал Семен Семеныч.
Прачка уже взялась за ручку двери, как остановилась и воскликнула:
— Что это, я, кажись, от радости рехнулась! Катя, простись с отцом да помолись богу!
И прачка усердно стала молиться. Катя последовала примеру матери.
— Ну, прощайся! — сказала прачка, толкнув Катю к Куприянычу.
Катя нехотя подошла к нему и тихо сказала:
— Прощайте!
— С богом, прощай! — отвечал равнодушно Куприяныч и в первый раз поцеловал Катю в лоб.
— Перекрести! — заметила прачка своему мужу.
Он перекрестил.
Прачка сняла с шеи маленький серебряный образок и, благословив дочь, схватила ее за голову, прильнула к ней губами и заплакала. Катя, не понимая, впрочем, о чем плачет мать, тоже заплакала, и рыдания наполнили подвал.
— Полноте-с, о чем тут плакать, сами изволили желать! — заметил Семен Семеныч.
Куприяныч ничего не говорил. Он пожимал только плечами и насмешливо глядел на свою жену.
Прачка ничего не слушала; она дрожащими руками крестила свою дочь, целовала ее голову, даже руки и длинные косы, и, прижав девочку к своей высохшей груди, твердила:
— Катя, не забудь свою мать, не забудь ее!
Семен Семеныч, видя, что слезам прачки не будет конца, сказал:
— Что это-с вы ребенка-то пугаете: ведь они заробеют!
— Ах, батюшка, будет ли она счастлива! — воскликнула прачка и рыданием заглушила свои слова.
— Ну ведь у ней опухнут и покраснеют глаза; скажут еще, что болезнь какая, — нетерпеливо отвечал Семен Семеныч на вопрос прачки о судьбе дочери.
Прачка прекратила свои рыдания, перекрестив и поцеловав в последний раз дочь, вытерла ей слезы, пугливо поглядела ей в лицо и нетвердым голосом сказала:
— Ну, пойдем!
И прачка печально вывела за руку свою дочь из подвала.
В кухне Любской был большой беспорядок. На плите кипел бульон; недоглаженное платье было забыто горничной, которая, важно облокотясь на доску, кричала страшно. Перед ней стояла маленькая женщина в шелковом салопе и в шляпке с помятыми цветами. То была горничная Ноготковой. Денщик с нафабренными усами, с гордой осанкой, стоял в шинели, навьюченный чубуками, фуражкой, саблей и сюртуком.
Сидоровна, вся в лохмотьях, с веревкой в руке, жалась в углу у дров, только что ею принесенных.
Разговор был горячий между горничными и денщиком. Они не скоро заметили приход прачки, ее дочери и Семеныча. Елена Петровна встретила последнего радостным восклицанием; но камердинер не заметил ее и прямо адресовался с вопросом к денщику:
— Переезжаете?
— Да, мы любим по-походному: сегодня здесь, а завтра там.
И он указал на горничную Ноготковой, которая отвечала:
— Да я не то что Олена Петровна: я воли вам не дам-с.
— Ну так мы приступом возьмем.
Смех раздался в кухне.
— Прощайте, Олена Петровна, — начала прачка, толкая Катю, которая протянула губы к горничной.
— Это куда разрядилась? — спросила горничная Любской.
— Учиться, — с гордостью отвечала Катя.
— А глаза что красны: мать, что ли, била?
— Ах, Олена Петровна! когда же я ее била? — обидчиво заметила прачка.
— Мы пришли проститься с вашей барыней.
- Некогда — плачет! — отрывисто отвечала горничная и подмигнула денщику, который самодовольно закрутил усы.
Семен Семеныч лукаво улыбнулся и шепнул горничной Ноготковой:
— Чай, и ваша скоро заплачет?
— Наша не из таких: она плакать не станет, а глаза выцарапает.
И она обратилась к Олене Петровне и озабоченно продолжала:
— Так розовое наденут? Ну и наша розовое, только с иголочки. Прощай, Оля! Заходи кофейку испить.
Горничные дружно поцеловались и расстались.
— Важнеющая особа! — заметил денщик, провожая глазами горничную Ноготковой.
— Да, только язык-то длинен! — с сердцем заметила Олена Петровна.
Прачка обратилась к ней с вопросом:
— Нельзя ли доложить?
— Отвяжись ты от меня! — грубо закричала Олена Петровна. И, закатив глаза под лоб, она обратилась к денщику и нежно сказала: — Прошу лихом не вспоминать нас. Заверните когда-нибудь вечерком.