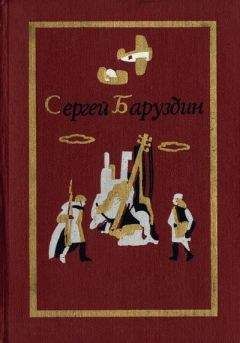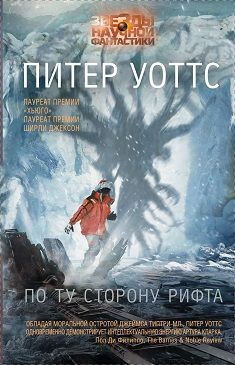минуту я мог представить, что делается сейчас там…
Мы приехали в Гороховецкие лагеря морозным заснеженным утром первого января. Помню, как на станции Ильино, где мы разгружались, нас встретил старенький солдат-часовой:
— Ох, сосунки! Занесло вас!
О Гороховецких лагерях ходили легенды. Песок на семьдесят пять верст и блохи в песке — только повороши. А зимой блохи перебираются в землянки и даже полыни не боятся, на которой спят солдаты. И ни штатской души вокруг, только город Гороховец, до которого не близко.
Но блохи — еще не всё и песок — не всё. Рядом с песками болота. С блохами соперничают комары. А комар, он, известно, хуже блохи. От блохи — только чесотка, а от комара — малярия. И кормежка в лагерях горевав. В общем, месяца три можно вытерпеть, но больше — вряд ли…
А вот сейчас я вспоминал Гороховецкие лагеря с завистью. Кажется, я всё бы отдал, чтоб опять быть там — вместе со всеми, со своими…
Там, где
В землянке солдатской уют,
Метель завывает у окон,
И тихо солдаты поют
О чем-то родном и далеком.
Растоплена печь докрасна,
И только залезешь на нары,
Забудешь, что рядом — война,
Что рядом — бои и пожары.
Но это лишь ночь или две…
Напьешься горячего чаю
И вспомнишь, что где-то в Москве,
Наверное, праздник встречают.
А тут за землянкой темно,
На метр дороги не видно.
И станет немного смешно,
А может быть, просто обидно.
И скажет соседу сосед:
— Послушай, ты знаешь, дружище,
Немало мы видели бед,
А все-таки счастье отыщем!
…В землянке солдатской уют,
Метель завывает у окон.
И тихо солдаты поют
О чем-то родном и далеком…
И еще: там наверняка ждут меня письма. Должны ждать, Не из дома — мать приезжала ко мне в госпиталь почти ежедневно. Я знал даже, какие ждут меня письма — по почерку, по фразам, по тону. Уж очень давно их не было…
После Октябрьских праздников я опять остался один. Старшину выписали без операции, решив довольно разумно: раз можно не резать, лучше не резать.
Мои дела, кажется, шли на поправку. Гурий Михайлович сам посмотрел снимок и сказал:
— Теперь, голубчик, поменьше валяться. Ходить! Ходить! И лечебная физкультура. Два сеанса, впрочем — три. Проследите, сестра, за раненым.
Сейчас в госпитале всех называли ранеными.
Я ходил, делал физкультуру — официальную, лечебную, и доморощенную, свою. В палате, когда оставался один. Гипс у меня сняли, заменили его тугой повязкой. Лишь бы скорей! Скорей!
Раз вечером, после отбоя, меня и застала за этим занятием Вера Михайловна. Скинув одеяло, я усиленно дрыгал левой ногой и поначалу не услышал, как открылась дверь.
Увидев сестру, я растерялся.
Кое-как натянув на себя одеяло, я пробормотал:
— Вот развиваю, сестрица… Гурий Михайлович советовал… Физкультура…
Впрочем, что за глупость я говорю! Вера Михайловна сама знает, что сказал начальник отделения. При ней же.
Но Вера Михайловна молчала. Она еще не проронила ни слова, а стояла около меня, около моей койки и смотрела… Смотрела не так, как всегда — на обычных обходах и когда приносила или уносила градусники, и когда просто заходила к нам, чтобы проверить, все ли в порядке, и сказать доброе слово.
И лицо ее сейчас я увидел — она красивая. Красивая, как те недосягаемые женщины, которых я видел не раз в детстве. И влюблялся в них смешно — но горячо, хотя об этом никто не знал, кроме меня…
Вид у меня, наверно, был растерянный.
— Что ты, миленький? — Вера Михайловна произнесла это каким-то не своим голосом.
Я вдруг услышал, как стучало ее сердце. Или — мое сердце? И губы, губы мои, почему они так сохли?
Я прошептал, кажется, какую-то глупость и сам не расслышал своих слов. И попытался выше натянуть одеяло.
Она присела на кровать и отвела мою руку:
— Не надо, дурачок, не надо.
Я знал все и не знал ничего. Я все понимал и ничего не понимал в эту минуту. Что происходило со мной?
Она целовала меня в лицо, в шею, она прижимала мою руку к своему горящему лицу, и мне было хорошо гак, как не было еще никогда…
— Обними меня! Обними! Ты же не мальчик… Я знаю, ты чистый, не как все… Другие сами лезут… Я не хочу так… Обними, глупый! — просила она.
На минуту мне показалось, что это голос Наташи. Только слова какие-то другие, не ее.
«Наташа! Наташа! Молчи! Не надо говорить! Ничего не надо говорить!» — шептал я про себя.
Мне было хорошо, но я вдруг понял, что не могу обнять ее, не могу… Не могу даже притронуться к ней.
А она вдруг заплакала — тихо, по-девчачьи вздрагивая:
— Я все знаю… Все знаю… Я ребеночка хочу… чистенького… маленького… И чтоб жить для него… Ласкать…
Она внезапно выскочила из палаты. Мне было стыдно, и горько, и жалко ее…
Наутро Вера Михайловна пришла в палату — обычная, какой я привык видеть ее каждый день. Она сунула мне градусник, подняла маскировочную штору на окне и открыла форточку. Потом на минуту задержалась у моей койки, положила руку на мой лоб, словно проверяя, нет ли у меня температуры.
— А что до вчерашнего, так не надо вспоминать! Это — так. Пройдет, — спокойно сказала она и вышла.
«Дорогой дружище!
Ты что-то совсем там загоспитализировался. Собирался приехать к тебе, навестить, даже Катонин и Буньков отпускали. Но задержали комсомольские дела. А сейчас получил твое письмо с приятным известием: раз сняли гипс — значит, скоро ты вернешься.
У нас все хорошо. Подробности мелких событий доложу при встрече. О главном — об отправке в действующую — пока ничего не слышно.
Продолжаем долбить солдатскую науку. Кстати, ты не беспокойся. Догонять не придется. Занимаемся все тем же, что и при тебе.
Пересылаю тебе три письма. Знаю, как ты их ждешь.
Другие письма, согласно твоему распоряжению, храню у себя.
Скорей выздоравливай и — до встречи. Без тебя скучно.
Большой привет от всех наших! Да, можешь поздравить Володю: он стал ефрейтором.
Крепко обнимаю!
Твой Саша..