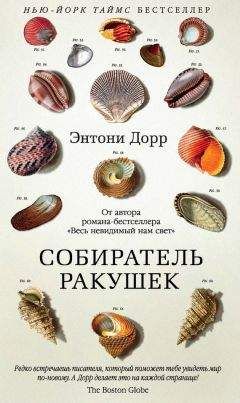Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория – и не мог скрыть этого; оживленно потирая руки, сказал:
– Нашего полку прибыло! Слышишь, ты, штабс-капитан? Дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать – будешь при штабе с Капариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный.
К заре слегка приморозило. Лужи затянуло сизым ледком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные, осыпающиеся, круглые отпечатки, а там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с приникшей к ней мертвой прошлогодней травой лишь слегка вминалась под копытами и, продавливаясь, глухо гудела.
Фоминский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников высланного вперед головного разъезда.
– Вот оно, мое войско! – подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. – Черту рога можно сломать с такими ребятами!
Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденновский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали!»
Фомин указал плетью, спросил:
– Как они на вид?
– Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо, а вот как они в бою – не знаю, – сухо ответил Григорий.
Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:
– Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый, эти не подведут.
Шесть пароконных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию, спросил:
– Ну, как мой конь? По душе?
– Добрый конь.
Они долго молча ехали рядом, стремя к стремени, потом Григорий спросил:
– В Татарском не думаешь побывать?
– По своим наскучал?
– Хотелось бы проведать.
– Может, и заглянем. Зараз думаю на Чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки.
Но казаки не очень-то охотно «шевелились»… В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Капарин. Они призывали казаков к оружию, говорили о «тяготах, которые возложила на хлеборобов Советская власть», об «окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если Советскую власть не свергнуть». Фомин говорил не так грамотно и складно, как Капарин, но более пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами: «Мы с нонешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбинка кончилась. Вы – свободные люди! Вооружайтесь и поддерживайте нашу власть! Ура, казаки!»
Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики:
– Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез?
– Где ты ее возишь, свою власть, в тороках?
– А вы сами чьим хлебом кормитесь?
– Небось зараз поедете по дворам побираться?
– У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить!
– Как это – хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам отвечать?
– Не дадим вам наших мужьев! Воюйте сами!
И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей.
Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам. И тогда коротко и рассудительно те отвечали:
– Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь.
– Пробовались, восставали в девятнадцатом году!
– Не с чем восставать и не к чему! Пока нужды нету.
– Пора подходит – сеять надо, а не воевать.
Однажды из задних рядов кто-то крикнул:
– Сладко гутаришь зараз! А где был в девятнадцатом году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин, всхомянулся!
Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ.
Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления; даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем!» – самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но, убедившись в том, что основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно, – он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил. Однако результат оставался прежним: казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и так же молча начинали расходиться.
В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое, изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно выплевывала язвительные слова:
– Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб повдовила? Мало деток посиротила? Новую беду на наши головы кличешь? И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора Рубежного? Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а посля нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не надо! А то у тебя самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно! А ты усы распушил, разъезжаешь на конике, народ мутишь. У тебя у самого в хозяйстве – кабы ветер хату не подпирал, она давно бы упала. Учитель нашелся! Чего же ты молчишь, рыжее мурло, аль я неправду говорю?
В толпе зашелестел тихий смешок. Зашелестел, как ветер, и стих. Левая рука Фомина, лежавшая на луке седла, медленно перебирала поводья, лицо темнело от сдерживаемого гнева, но он молчал, искал в уме достойный выход из создавшегося положения.
– И что это за власть твоя, что ты зовешь ее поддерживать? – напористо продолжала вошедшая в раж вдова.
Она подбоченилась и медленно шла к Фомину, виляя широченными бедрами. Перед нею расступались казаки, пряча улыбки, потупив смеющиеся глаза. Они очищали круг словно для пляски, сторонились, толкали друг друга…
– Твоя власть без тебя на земле не остается, – низким басом говорила вдова. – Она следом за тобой волочится и больше часу в одном месте не живет! «Нынче на коне верхом, а завтра в грязе Пахом» – вот кто ты такой, и власть твоя такая же!
Фомин с силой сжал ногами бока коня, послал его в толпу. Народ шарахнулся в разные стороны. В широком кругу осталась одна вдова. Она видала всякие виды и потому спокойно глядела на оскаленную морду фоминского коня, на бледное от бешенства лицо всадника.
Наезжая на нее конем, Фомин высоко поднял плеть.
– Цыц, рябая стерва!.. Ты что тут агитацию разводишь?!
Прямо над головой бесстрашной казачки высилась задранная кверху, оскаленная конская морда. С удил слетел бледно-зеленый комок пены, упал на черный вдовий платок, с него – на щеку. Вдова смахнула его движением руки, ступила шаг назад.
– Тебе можно говорить, а нам нельзя? – крикнула она, глядя на Фомина круглыми, сверкающими от ярости глазами.
Фомин не ударил ее. Потрясая плетью, он заорал:
– Зараза большевицкая! Я из тебя дурь выбью! Вот прикажу задрать тебе подол да всыпать шомполов, тогда доразу поумнеешь!
Вдова ступила еще два шага назад и, неожиданно повернувшись к Фомину спиной, низко нагнулась, подняла подол юбки.
– А этого ты не видал, Аника-воин? – воскликнула она и, выпрямившись с диковинным проворством, снова стала лицом к Фомину. – Меня?! Пороть?! В носе у тебя не кругло!..
Фомин с ожесточением плюнул, натянул поводья, удерживая попятившегося коня.
– Закройся, кобыла нежерёбая! Рада, что на тебе мяса много? – громко сказал он и повернул коня, тщетно пытаясь сохранить на лице суровое выражение.
Глухой задавленный хохот зазвучал в толпе. Один из фоминцев, спасая посрамленную честь своего командира, подбежал к вдове, замахнулся прикладом карабина, но здоровенный казак, ростом на две головы выше его, заслонил женщину широким плечом, тихо, но многообещающе сказал:
– Не трогай!
И еще трое хуторян быстро подошли и оттеснили вдову назад. Один из них – молодой, чубатый – шепнул фоминцу:
– Чего намахиваешься, ну? Бабу побить нехитро, ты свою удаль вон там, на бугре, покажи, а по забазьям все мы храбрые…
Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах.
– Казаки! Подумайте хорошенько! – крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся толпе. – Зараз добром просим, а через неделю вернемся – другой разговор будет!