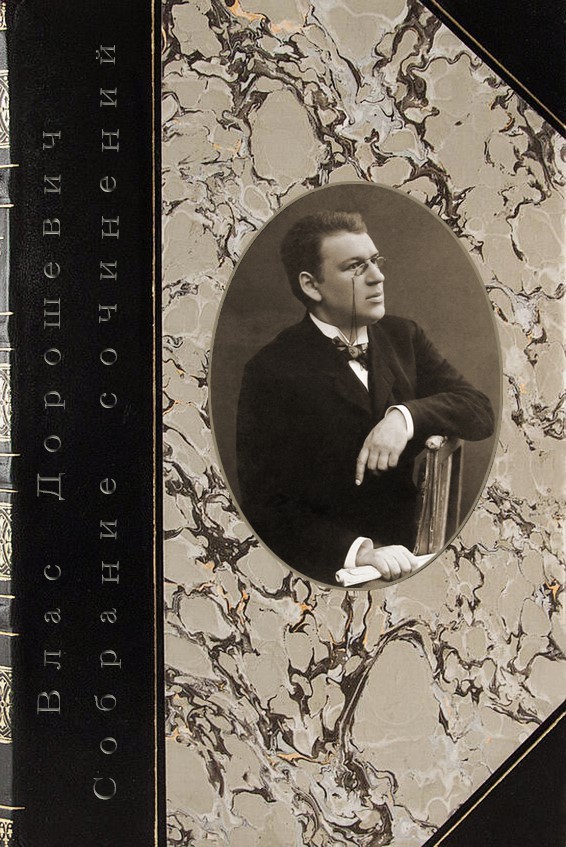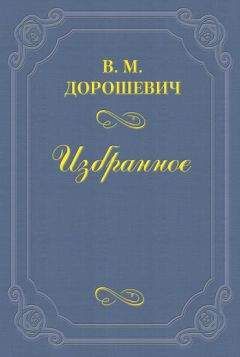снова, — без слова, без звука, — стильная фигура.
Словно оторвавшийся клочок тумана ползёт по сцене, ползёт странно, какими-то зигзагами. Что-то отвратительное, страшное, зловещее есть в этой фигуре.
Становится жутко, когда он подходит к Фаусту.
И вот, наконец, кабинет Фауста.
— Incubus! Incubus! Incubus! [232]
Серая хламида падает, и из занавески, из которой высовывалась только отвратительная, словно мёртвая, голова дьявола, появляется Мефистофель в чёрном костюме, с буфами цвета запёкшейся крови.
Как он тут произносит каждое слово:
— Частица силы той, которая, стремясь ко злу, творит одно добро.
Какой злобой и сожалением звучат последние слова!
После Эрнста Поссарта в трагедии я никогда не видал такого Мефистофеля!
Знаменитое «Fuschio».
Весь Шаляпинский Мефистофель в «Фаусте» Гуно — нуль, ничто в сравнении с одной этой песнью.
— Да, это настоящий дьявол! — говорила вся публика в антракте.
Каждый жест, каждая ухватка! Удивительная мимика. Бездна чего-то истинно-дьявольского в каждой интонации.
«Fuschio» снова вызвало гром аплодисментов.
Теперь уж нечего было заботиться об успехе.
Такой Мефистофель увлёк публику.
Говорили не только о певце, но и об удивительном актёре.
Фойе имело в антрактах прекурьёзный вид.
Горячо обсуждая, как была произнесена та, другая фраза, увлекающиеся итальянцы отчаянно гримасничали, повторяли его позы, его жесты.
Всё фойе было полно фрачниками в позах Мефистофеля, фрачниками с жестами Мефистофеля, фрачниками с мефистофельскими гримасами! Зрелище, едва ли не самое курьёзное в мире.
Сцена с Мартой знакома по исполнению в «Фаусте». Следует помянуть только об удивительно-эффектном и сильном красном костюме по рисунку Поленова.
Мефистофелю приходится заниматься совсем несвойственным делом: крутить голову старой бабе! Он неуклюж в этой новой роли. Он — самый отчаянный, развязный, но неуклюжий хлыщ.
Каждая его поза, картинная и характерная, вызывает смех и ропот одобрения в театре.
Блестящи переходы от ухаживания за Мартой к наблюдениям за Фаустом и Маргаритой.
Лицо, только что дышавшее пошлостью, становится вдруг мрачным, злобным, выжидающим.
Как коршун крови, он ждёт, не скажет ли Фауст заветное:
— Мгновение, остановись! Ты так прекрасно!
Это собака, караулящая дичь. Он весь внимание. Весь злобное ожидание.
— Да когда же? Когда?
Квартет в саду был повторён.
Ночь на Брокене, — здесь Мефистофель развёртывается вовсю. Он царь здесь, он владыка!
— Ecco il mondo! [233] — восклицает он, держа в руках глобус.
И эта песнь у Шаляпина выходит изумительно. Сколько сарказма, сколько презрения передаёт он пением.
Он оживляет весь этот акт, несколько длинный, полный нескончаемых танцев и шествий теней.
Когда он замешался в толпу танцующих, простирая руки над пляшущими ведьмами, словно дирижируя ими, словно благословляя их на оргию, — он был великолепен.
Занавес падает вовремя, чёрт возьми!
На какую оргию благословляет с отвратительной улыбкой, расползшейся по всему лицу, опьяневший от сладострастия дьявол!
— Какая мимика! Какая мимика! — раздавалось в антракте, на ряду с восклицаниями:
— Какой голос! Какой голос!
Классическая ночь. Мефистофелю не по себе под небом Эллады. Этому немцу скверно в Греции.
— То ли дело Брокен, — тоскует он, — то ли дело север, где я дышу смолистым воздухом елей и сосен. Вдыхаю испарения болот.
И по каждому движению, неловкому и нескладному, вы видите, что «блажному детищу Хаоса» не по себе.
Среди правильной и строгой красоты линий, среди кудрявых рощ и спокойных вод, утонувших в мягком лунном свете, — он является резким диссонансом, мрачным и жёлчным протестом.
Он — лишний, он чужой здесь. Всё так чуждо ему, что он не знает, куда девать свои руки и ноги. Это не то, что Брокен, где он был дома.
И артист даёт изумительный контраст Мефистофеля на Брокене и Мефистофеля в Элладе.
Последний акт начинается длинной паузой. В то время, как г-н Карузо, словно гипсовый котёнок, для чего-то качает головой, сидя над книгой, всё внимание зрителей поглощено фигурой Мефистофеля, стоящего за креслом.
Он снова давит, гнетёт своим мрачным величием, своей саркастической улыбкой.
— Ну, гордый мыслитель! Смерть приближается. Жизнь уж прожита. А ты так и не сказал до сих пор: «Мгновенье, остановись! Ты так прекрасно!»
Чтоб создать чудную иллюстрацию к пушкинской «сцене из Фауста», чтоб создать идеального Мефистофеля, спрашивающего:
«А был ли счастлив?
Отвечай!..»
Стоит только срисовать Шаляпина в этот момент.
А полный отчаяния вопль: «Фауст! Фауст!» когда раздаются голоса поющих ангелов.
Сколько ужаса в этом крике, от которого вздрогнул весь театр.
И, когда Мефистофель проваливается, весь партер поднялся:
— Смотрите! Смотрите!
Этот удивительный артист, имеющий такой огромный успех, — в то же время единственный артист, который умеет проваливаться на сцене.
Вы помните, как он проваливается в «Фаусте». Перед вами какой-то чёрный вихрь, который закрутился и сгинул.
В «Мефистофеле» иначе.
Этот упорный, озлобленный дух, до последней минуты споривший с небом, исчезает медленно.
Луч света, падающий с небес, уничтожает его, розы, которые сыплются на него, жгут. Он в корчах медленно опускается в землю, словно земля засасывает его против воли.
И зал снова разражается аплодисментами после этой великолепной картины.
— Из простого «провала» сделать такую картину! Великий артист!
И кругом среди расходящейся публики только и слышишь:
— Великий артист! Великий артист!
Победа русского артиста над итальянской публикой, действительно, — победа полная, блестящая, небывалая.
— Ну, что ж Маринетти с его «ladri in guanti gialli»? — спрашиваю я при выходе у одного знакомого певца.
Тот только свистнул в ответ.
— Вы видели, какой приём! Маринетти и К° не дураки. Они знают публику. Попробовал бы кто-нибудь! Ему переломали бы рёбра! В такие минуты итальянской публике нельзя противоречить!
И бедным Маринетти и К° пришлось смолчать.
— Да разве кто знал, что это такой артист! Разве кто мог представить, чтобы у вас там, в России, мог быть такой артист.
Я вернулся домой весь разбитый. Словно на мне возили дрова.
Я едва дотащился до кресла и сижу, подавленный, в каком-то оцепенении, полный того ужаса, который только что пережил.
Что случилось?
Я был в театре. В одном из лучших парижских театров, — в театре Антуана. Давали пьесу, которую бегает смотреть весь Париж. Она называется «По телефону».
Я пошёл в театр. А передо мной убили целую семью и сказали:
— Всё. Спектакль кончен.
И вот я, разбитый, сижу в кресле в оцепенении.
— Что это? Действительно был такой спектакль? Или это мне приснилось? Кошмар?
Драма в 2 актах состоит в следующем.
Семья Маре живёт за городом верстах в десяти по железной дороге от Парижа.
Поздняя осень. Сумерки. За окном барабанит дождь, завывает ветер. В такие вечера уныло и жутко,