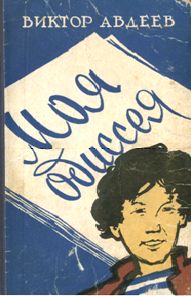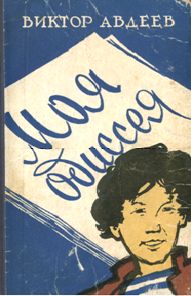Мавра Савишна была тут в гостях; она говорила: «Пусть их обживутся одни, узнают друг друга, а я перееду к ним после».
Приглашенных было много: вся губернская знать и, по заведенному порядку, все значительные должностные лица. Было и дам много; но девиц тут не было… И неловко было положение молодой, и она как-то робко посматривала вокруг, и как будто с грустью искала глазами оставивших ее подруг.
А тут еще докучные остряки, со своими плоскими намеками да двусмысленными улыбками!
Было всякое угощение, а потом и ужин; пили здоровье каждого порознь, и всех вообще… пили и мое здоровье! Как будто им было нужно оно на что-нибудь! Наконец все стали разъезжаться. Сначала Варенька, казалось, была довольна этим: ее так утомила тревога дня! Но потом, когда незнакомые ей комнаты начали пустеть, и реже и реже был круг близких ей людей, она становилась задумчивее и печальнее. Уехал и Иван Васильич. Пришлось наконец ей проститься и с Маврой Савишной; и тут они немного опять поплакали.
Оставался я один, благодаря моей обязанности шафера и весьма плохого и ленивого распорядителя; и, признаюсь, по какому-то странному капризу я рад был случаю подолее не уезжать. Но наконец и я должен был ехать. Когда я подошел проститься с молодыми, Варенька, как будто поджидая меня, стояла грациозно, положив руку на плечо своего мужа. Володя был румян и доволен как нельзя более; он от души благодарил меня; он был, казалось, так счастлив, что любил и меня! Варенька была рассеянна; но когда я поклонился ей, она мне весело подала руку; глаза ее оживились, и мне показалось, что в них блеснула горькая и злая насмешка…
В эту минуту я дорого бы дал, чтобы бросить при ней всю ее прежнюю любовь в довольное лицо ее мужа!
Я вышел, и они остались одни…
И теперь, когда давно спит весь добрый люд и только одни петухи горланят на дворе соседа, я сижу одни и нахожу болезненное наслаждение перебирать и записывать происшествия этого дня. Отчего же не спится мне; отчего, возвратясь домой, я ходил по комнате до упада, и кровь беспокойно кипит во мне, и я чувствую какую-то тупую боль в сердце; отчего я переживаю такие трудные минуты? Ведь не влюблен же я, в самом деле, в Вареньку? Ведь я же не хотел жениться на ней и сам толкнул ее в руки Имшина! Все от меня зависело… и не сидел бы я тогда один у заваленного книгами стола да не марал бы бумаги вплоть до рассвета, назло моему камердинеру, как теперь, например!
А они?..
(Тут в рукописи, вместо точек, стояла страшная, раздвоившаяся клякса, как будто перо ударилось о бумагу и разщепилось вплоть до руки.)
Я был болен. Доктор нашел, что у меня разлилась желчь. Я это знал и без доктора. Он прописал мне микстуру и велел сидеть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я через час по ложке аккуратно выливал ее за окно. Когда я вылил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно здоров, и я заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью. Тогда он дал мне совет больше выезжать и меньше обращать внимание на чужие глупости. Я нашел совет лучше лекарства и решился строго держаться его.
У Имшиных я бывал сначала редко: я не мог равнодушно видеть Вареньку женой другого; но потом я хотел пересилить это чувство и нарочно начал чаще бывать у них; однако ж привычка не избавила меня от какого-то болезненного сжатия сердца, которое я чувствую всякий раз, когда вижу Имшина. Напротив, час от часу впечатление делается сильнее и больнее, час от часу я становлюсь раздражительнее. И теперь я нахожу странное удовольствие в этом чувстве: я с какою-то гордостью подставляю свое сердце под эти мелкие удары и холодно смеюсь над его болью.
Как скоро изменилась Варенька! Как легко она вошла в свою роль! Когда я приехал к ним в первый раз после болезни, я почти не узнал ее! Вместо осторожной, связанной этикетом девицы я нашел грациозную, миленькую даму, которая будто весь век была ею.
Меня всегда поражала способность наших девиц становиться сразу в ту среду, в которую ее вводит перемена положения; и натура удивительно эластична: она тотчас принимает новые формы. Мужчина в этом случае гораздо грубее: ему надобно долго обнашивать свою женатость, чтобы свободно носить ее, а не то она сидит на нем как дурно сшитое платье; но это очень понятно! Оттого-то на сто смешных мужей встречается одна смешная жена.
Я не ухаживаю за Варенькой, – не потому, чтобы это было слишком рано, а из боязни уронить себя в ее глазах: я уверен, она бы оскорбилась и не простила бы мне моего волокитства. Но, сознаюсь, меня что-то влечет к ней. Что? Не знаю! Может быть, привычка, прелесть потерянного или, наконец, избалованное самолюбие, которое беспрестанно запрашивает более и более. Впрочем, надобно и то заметить, что теперь Варенька не деревенская девочка: она имеет всю заманчивую привлекательность женщины, да еще вдобавок так недавно выстрадавшей опытность. Еще одна новая, тщательно скрываемая черта Варенькиного характера притягивает меня своей загадочностью: мне удалось подметить в ней какую-то внутреннюю сухость, какой-то душевный холод, который изредка пробивается сквозь ее грациозную непринужденность манер и странно противоречит с ее видимой веселостью.
Что это? Следы ли прошлого, не совсем залеченного страдания, или – и самолюбие подшептывает другую догадку – или остаток прежней, против воли тлеющей любви?
Все это вместе очень интересует и привлекает меня. К тому же она так самонадеянно беспечна, так равнодушно мила, что это меня сердит, особенно когда я вспомню, что не могу притупить глупую боль моего сердца!
Нет, я недоволен собой! Я веду себя как мальчишка! Характер мой испортился до того, что я готов бы был его бросить и остаться совсем без характера, что всего хуже на свете. При Вареньке я то лихорадочно весел, то зол, как цепная собака; без нее мне скучно. Я едва удерживаю себя, чтобы не бывать у нее каждый день, и только мои всегдашние странности избавляют меня от замечаний света. Если я весел, говорят: Тамарин сегодня в духе; если я зол, говорят: у Тамарина желчь, и дело с концом. Все знают, что то и другое у меня бывает без причины, и моя прочная репутация холодного эгоиста прикрывает меня.
А Варенька все по-прежнему мила и равнодушна – кажется, еще милее, еще равнодушнее! А глупое сжатие сердца еще сильнее! Что ж это, ревность, что ли? И к кому же? К Володе, к мужу!.. Досадно!
Недавно мы случайно остались вдвоем с Варенькой. Она что-то работала по канве и опустила голову. Я сидел прямо против нее, на низком кресле. Две свечи стояли на пяльцах, и между ними, как в святочных гаданьях, мне видна была головка Вареньки. Я воспользовался своим положением, чтобы незаметно для нее полюбоваться ею. Варенька похорошела. На ее лице нет живости деревенского румянца, но его сменил легкий розовый оттенок. Лицо это, одушевленное чудесными темно-голубыми ясными глазами и двумя ямками на щеках, окаймленное густыми, русыми, гладко причесанными волосами, делало ее головку такой оживленной, и эта головка была так мило поставлена, так проникнута полнотою созревшей мысли, что я с наслаждением любовался ею… Я продолжал смотреть в ее темно-голубые глаза и искал в них признаков смущения и беспокойства, но были они тихи, ясны смело остановились на мне. Прошла долгая минута ожидания. Наконец по устам Вареньки пробежала улыбка, ямки живее обозначились на щеках, и она, немного прищурясь, очень наивно спросила меня:
– Скажите, пожалуйста, что вы так пристально смотрите на меня?
Мне стало совестно самого себя, и я смутился, как почтенный человек, который наедине делает перед зеркалом умильные гримасы и вдруг видит в нем два насмешливых посторонних глаза. Но я оправился и отвечал ей:
– Я искал в ваших чертах черты другой знакомой мне особы.
– И что же?
– И боюсь, что вместо нее увидел вас.
– Будто это так страшно?
– Не страшно, но неутешительно!
– Будете вы завтра в театре? – спросила она.
– Вы хотите переменить разговор?
– Нет, но завтра дают, говорят, хорошую пьесу: «Что имеем, не храним»…
– Она не в моем духе, – отвечал я, – может быть, потому, что я, потерявши, никогда не плачу.
Все это могло бы меня очень забавлять, если бы не было так досадно! Самая пора года, когда наша русская природа готовится к превращению, странно настраивает душу, заставляет и ее желать какой-то перемены. Снег истерся в песок, капли звучно падают с крыш, небо серо, как земля, и, как земля, тучи держат массу воды, готовую смыть ее изношенную одежду. И вдруг пахнет в лицо теплый ветер, Бог весть откуда занесенный навесть какие-то чуждые мысли!… Нет, решительно я недоволен собой!
Я перестал бывать у Имшиных. Мне надоела эта внутренняя тревога, которая так потрясает меня; но я не избегал ее; я несу ее с собой в шумный сбор молодежи в тишину моего рабочего кабинета; только без Вареньки она иначе действует на меня: она производит впечатление кокой-то постоянной тяжести, тупой, хоть и несносной боли. Впрочем, еще одна мысль заставляет меня тщательно избегать общества Вареньки: я хочу ее заставить почувствовать мое отсутствие. Когда она меня видит, она становится в оборонительное положение, и борьба дает ей силы; но без меня ей придется иметь дело со своим воображением. «Легче победить сто врагов, чем самого себя», – сказал кто-то прежде меня.