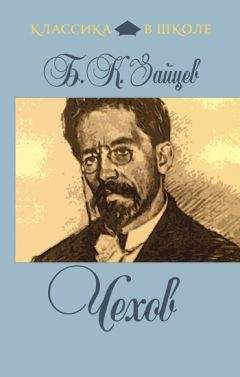Горький весь был в этом. С Чеховым сложнее, потому что он сложнее сам. Славу он любил, но держался на расстоянии и собой владел замечательно. А главное – в нем было нечто подземное совсем в другом роде. С годами, в страданиях болезни, в одиноких ялтинских созерцаниях, в ощущении близкого конца («пять годочков»), оно росло, просветлялось, искало выхода, и нечто открывалось ему, о чем разумными словами он сказать не умел. Это был несознанный свет высшего мира, Царства Божия, которое «внутрь вас есть». Молодому, здоровому, краснощекому Чехову времен студенчества мало оно открывалось, Чехову зрелому было наконец приоткрыто. Оттого в молодости он не мог написать «Архиерея» (даже «Студент» написан не в молодости). «Архиерей» же есть свидетельство зрелости и предсмертной несознанной просветленности.
Весь «Архиерей» полон этого света. В «Мужиках» он уже пробился, в повести «В овраге» дал замечательные страницы ночной встречи Липы с мужиками. В «Архиерее» ровное, неземное озарение разлито с первых же страниц повествования, со всенощной в Вербную субботу до конца. Длинную всенощную служит преосвященный Петр, уже больной. И все волшебно в церкви. Море людей, у всех блестят глаза, сквозь туман архиерею кажется, что к нему, за вербой, подошла мать, простая женщина, вдова дьячка, которой он не видел девять лет, «и все время смотрела на него с радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу».
«Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем».
Откуда это? Почему плачут все? Бывает так? Но вот Чехов берет сразу такой тон, что покоряет и убеждает: да, высший мир присутствовал тогда, на Вербной всенощной Панкратьевского монастыря, он так до конца и будет присутствовать в чудесном произведении этом: и в лунном свете апрельской ночи, и в воспоминаниях о детстве и любви к нему матери, и в смиренном о. Симеоне, который не мог вспомнить, где в Священном Писании упоминается Иегудиилова ослица, и в воспоминаниях архиерея о своей юношеской «наивной вере», когда носили по деревням икону крестным ходом, и в той последней предсмертной всенощной Великого Четверга, Двенадцати Евангелий, которую служил через несколько дней преосвященный Петр и сам наизусть читал первое, самое длинное Евангелие. «Ныне прославился Сын Человеческий…» и «чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым», как всегда, когда служил в Церкви. Высший мир и в любви к нему матери, робкой и боящейся его, как архиерея.
Ничего не значит, что вокруг жизнь убога и темна, что все пред архиереем трепещут и это его огорчает, и ему не с кем слова сказать. Даже родная мать, даже девочка Катя, племянница, которая все роняет и у которой волосы над гребенкой на голове стоят как сияние, – всё за некой чертой. Но над всем ровный свет, озаряющий всех.
В дольнем, бедном, грешном мире нашем преосвященному Петру тесно. Он и в болезни вспоминает все о детстве и о жизни за границей, куда был послан в южный чудный город, где жил уединенно и изящно, писал ученое сочинение. Все это – отзвуки высшего. И вот смерть приходит наконец; на той же Страстной приближается он к ней – недаром ему нездоровилось еще в Вербной всенощной (брюшной тиф). Мать явилась к нему в архиерейские покои, он так хочет обласкать, помочь ей, племяннице Кате, но уже поздно. Он сразу осунулся, ослабел, перестал чувствовать себя архиереем, грозным начальством, напротив, последним, самым незначительным из всех.
«Как хорошо, – думал он. – Как хорошо».
Мать сразу поняла, что это конец.
«Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного. – Павлуша, голубчик… родной мой! Сыночек мой! Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне».
«А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно».
Шел он, конечно, просто к Богу.
* * *
Повествования свои о духовенстве Чехов начинал о. Христофором Сирийским в «Степи», продолжал дьяконом в «Дуэли», кончил обликом преосвященного Петра – сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Чехов превосходно знал жизнь и не склонен был к односторонности, приглаживанию. И вот оказывается, если взять его изображения духовного сословия, почти вовсе нет обликов отрицательных.
Не знаю, понимал ли Миролюбов, какой дар прислал ему Чехов, могу только сказать, что тогда он замечен и оценен не был. Горький, Андреев шумели больше. Но «Архиерей» не для шума и написан.
Рассказ этот, истинный шедевр, доходил медленно и все же как неторопливо создавался, так не спеша и завладевал, чем дальше, тем глубже. Как сказано о зерне горчичном: «…хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».
Возраст будто и невелик, а жизнь прошла. Она слишком быстро шла, событий в ней мало, но Чехов был человек раннего развития и усиленного сгорания. Он старше своих лет – так продолжалось и до самого конца. В вопросах вечных: Бог, смерть, судьба, загробное – зрелость не принесла ни ясности, ни решения. Как был он двойственен, так остался до конца. «Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью». Он и искал – вряд ли нашел. В годы Ялты на вопрос, верит ли в бессмертие души, отвечал, что не верит, а через несколько дней с таким же упорством говорил: «Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это». Ни того, ни другого доказать, конечно, не мог, но не в этом дело. Просто же верить считал «неинтеллигентным». Интеллигентный верующий вызывал в нем недоумение – такое было время.
После «Архиерея» ему оставалось написать только «Вишневый сад». Из событий более мелких отмечает летописец такие: 1) Отказ от звания почетного академика из-за неутверждения Горького. Короленко и дух времени увлекли вовсе не простодушного Чехова на некую демонстрацию. Вместе с Короленко «заступился» он за Горького, «обиженного» тем, что его не утвердило правительство, против которого он вел подпольную и беспощадную войну. А быть почетным академиком даже у врагов все же приятно. («Ты полагала, что Горький откажется от почетного академика? Откуда ты это взяла? Напротив, по-видимому, он был рад».) 2) Посещения Чеховым Толстого, жившего тогда в Крыму, в Гаспре, и тяжело заболевшего. В это время Чехов вполне уже его почитал, хотя свободу высказываний сохранял – конец «Воскресения» не нравился ему, он об этом прямо и пишет. В общем же Толстой для него теперь Синай. Он даже волнуется, собираясь в Гаспру, тщательней одевается.
Но, конечно, все это второстепенно. Первостепенна сама жизнь, которой остается так уж мало. В жизни этой любовь и литература.
Любовь странно для него теперь сложилась. В сущности, он почти разлучен с любимой. В Ялте подолгу живет один, тоскует, болеет, молчит. По-детски подчинен Ольге Леонардовне в мелком обиходе жизни, все устраивает по ее распоряжениям из Москвы. Но самое для него важное – когда можно к ней, в эту Москву. «Три сестры» уже написаны и давно идут, но «в Москву, в Москву» так и остается, не для сестер, а для него самого.
Ольга Леонардовна это чувствует, иногда тоже угрызается. «Ты, родная, пишешь, что совесть тебя мучит, что ты живешь не со мной в Ялте, а в Москве. Ну как же быть, голубчик? Ты рассуди как следует: если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, то жизнь твоя была бы испорчена и я чувствовал бы угрызения совести…» (а что его жизнь теперь испорчена, это ничего. Но вообще в этом весь Чехов: отодвинуться в сторонку, подняв воротничок пальто; он как-нибудь примостится в жизни, было бы ей хорошо).
Письмо все трогательно по нежности. «В марте опять заживем и опять не будем чувствовать теперешнего одиночества. Успокойся, родная моя, не волнуйся, а жди и уповай. Уповай и больше ничего» (как будто дух матери, преломленный в богатой и сложной натуре, подсказывает ему простые, верные слова любви). Хочется ему и в Италию. «Нам с тобой осталось немного пожить, молодость пройдет через 2–3 года (если только ее можно еще назвать молодостью)» – это написано в январе 1903 года: не только «молодости», а самой жизни оставалось полтора года.
Может быть, потому, что любил ее и был с ней так ласков, Ольга Леонардовна считала, что характер у него отличный. Он с этим не согласен. «Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив, и пр., пр., но я привык себя сдерживать» – вот признание интересное, для мало знающих Чехова и неожиданное, для того, кто внимательно всматривается в жизнь его, – не удивляющее. Как-никак, был он сыном Павла Егорыча, и у него дед «ярый крепостник». Это с одной стороны. С другой: за недолгую жизнь он немало над собою потрудился, как трудился и над писанием своим (почему и шел в гору), как трудился в Мелихове над садом, как трудился и боролся с невежеством, болезнями, эпидемиями. Теперь это все отошло. Впрочем, кое-что и осталось: даже в Ялте, больной, утомляясь, иногда раздражаясь, все же хлопочет он и о чахоточных, о санатории в Ялте, о библиотеке в Таганроге. Сколько писем написано туда какому-то Иорданову, сколько послано книг, сколько с этим хлопот!