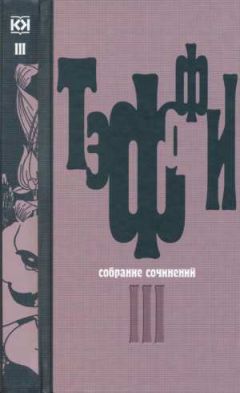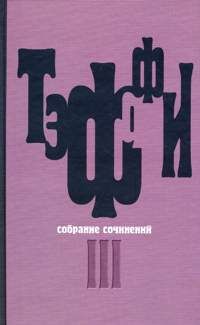Купила ему сапоги с крагами. Я уж даже ей валерьянку стала давать.
А тут как на грех все новенькие туристки приезжают, ну и, конечно, нанимают кучера осматривать окрестности. Был при отеле и автомобиль, но все предпочитали экипаж – приятнее и лучше можно любоваться пейзажами.
Ну, а наша бесится. Еще немножко стеснялась своего папеньки, а то прямо не знаю что бы и было.
Папенька, старый эгоист, конечно, думал только о себе, а что у дочери такие исключительные переживания, так он даже и не замечал.
Выходить из дому он не мог, так только, ковылял по комнатам с палочкой. Ноги от подагры еле гнулись.
Вот как-то раз, вечером, понесло этого старого черта к Анюте в комнату, и как раз в то время, как у нее кучер был. И чего этим лешим покоя нет? Ну, сам не спишь, так хоть других не тревожь.
Услышала Анюта, бедняжечка, его шаги в коридоре, натурально, испугалась и спрятала кучера к своему мальчику под кровать. Мальчик спал крепко, ничего не слыхал.
Вот лезет папенька в комнату.
– Мне, – говорит, – Нюточка, захотелось на Володьку взглянуть, как он спит.
Тоже, подумаешь, нашел зрелище. Ну, спит мальчишка и спит. Есть на что смотреть!
Но это бы еще не беда. А беда то, что за стариком увязалась хозяйская собачища. Так, дрянь какая-то, ни породы, ни моды. И вдруг, понимаете, пробудился в ней охотничий дух. Надулась вся, шерсть ершом и ну лаять под кровать. Лает и лает, аж хрипит.
Старик взволновался.
– Что это, – говорит, – у тебя тут, душенька, делается? Право, что-то неладное. Чего это собака так под кровать лает, и в комнате конюшней пахнет? Уж не залез ли кто?
Ну, Анюта не растерялась.
– Это, – говорит, – очень даже для ребенка хорошо и здорово.
А старик на себя дурь напустил.
– Что для ребенка, – говорит, – здорово? Чтобы к нему под кровать залезали?
Ну, Анюта, натурально, нервничает:
– Что вы за пустяки говорите. Не залезать здорово, а здорово, когда конюшней пахнет. Нормальный животный запах полезен для легких до такой степени, что его даже нарочно распространяют по комнатам, где есть дети.
Но старик, однако, не успокоился:
– Нет, душенька, тут что-то не так. Чего же собака-то лает? Уж ты не спорь. Наверное, кто-нибудь да залез. Надо позвать прислугу.
Ведь эдакий осел!
Бедная Анюта прямо из себя выходит. Одно спасенье, что старик не сгибается и заглянуть под кровать не может.
– Там, – говорит она, – наверное, кролик сидит. Сегодня мальчику кролика играть давали. Я лучше собаку выгоню, а то еще загрызет.
Насилу вытурила их обоих, и старика, и собаку.
А кучер потом стал капризничать.
– Мне, – говорит, – ваша собачонка еще нос откусит.
Еле его успокоила.
И вот раз встречаю я Анюту – что такое? Сама не своя. Расстроенная, сердитая.
– Ужасный, – говорит, – день! Прямо одна беда за другой. Из дому письмо пришло – муж помирает. А тут кучер кнут потерял. Все одно к одному. И еще веселенькая новость: приехали две хорошенькие барышни, и, не успела я принять меры, как они уже укатили с кучером до вечера. Я прямо покончу с собой.
Ну, я спросила, правда ли, что ее мужу так уж плохо.
– Ах, – говорит, – это такой подлец, вы его еще не знаете. Он способен назло захворать именно потому, что я сейчас погружена в такие сложные чувства.
Об этом письме, однако, как-то пронюхал старик – всюду они нос суют! – и велел телеграммой запросить.
Запросила.
Приходит ко мне Анюта вся в слезах.
– Получен ответ, что, если хочу застать в живых, должна немедленно ехать.
Я смотрю на нее, удивляюсь.
– Нюточка, – говорю, – чего же ты плачешь? Он же давно хворает. К чему же такая чувствительность?
А она еще больше плачет.
– Это, – говорит, – такое свинство! Это, – говорит, – самое последнее хамство – помирать именно теперь, когда я не могу оставить кучера одного из-за этих двух бесстыдниц, которые не знаю на что способны.
Старик, однако, настоял, чтобы она уехала. Поехала. Взяла всего багажа только пилочку для ногтей и из Вены назад вернулась.
– Не могу, – говорит. – У меня все время разрыв сердца делается.
Все, однако, обошлось сравнительно благополучно – в тот же день пришла телеграмма, что ее тошный инженер отдал Богу душу. Ехать, значит, было уже незачем. Хотя старик что-то заерундил, что, мол, неприлично не присутствовать на похоронах. Но бедняжка Анюта нашла в себе достаточно энергии, чтобы отстоять свою независимость.
И действительно – положение тревожное, кучер катает своих негодяек и на гору, и к морю, прямо как последний подлец, а тут изволь все бросать и ехать. И для чего? Чтобы угодить посмертному эгоизму бывшего мужа, который, может быть, и невольно, а все-таки сыграл довольно подленькую роль в эти последние дни.
Сезон кончался, и я уехала. Так и не знаю, чем все завершилось. И Анюту больше не видела, они все куда-то переехали.
Да, Анюту я не видала, но случайно, лет через десять, услышала о ней. И так удивительно все вышло.
Жила я тогда в Одессе. И вот зашла как-то к своему парикмахеру, а тот мне и рассказывает:
– Была у меня сегодня какая-то новая клиентка, сумасшедшая баба. Все ждала какого-то кавалера, и по телефону звонила, и на улицу выбегала. Бутылку лосьону пролила, лампу опрокинула, чуть пожару не наделала, а потом вдруг схватилась и куда-то полетела, и вот бумажничек забыла, не знаю как быть.
Показывает мне бумажничек. Разворачиваю, а там письма на имя – как вы думаете, кого? Анны Ивановны Латузиной, вот кого! Вот кто кавалера-то ждал и по телефону вызванивал.
– Бедная, бедная ты моя страдалица! Опять, думаю, какой-нибудь подлец терзает твое голубиное сердце! Мало ты от законного мужа страдала, так вот!
И за что?
Всего интереснее в этом человеке – его осанка.
Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.
Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам приготовлять особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.
Фамилия его Гутбрехт.
Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».
Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетики с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.
Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:
– Дорогая! Ну, почему же? Ну, почему же нет?
При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Этот прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым»), назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».
– Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!
Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:
– Начнем мы, конечно, с селедочки.
И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом:
– Боже, как она хороша!
И Лизочка не поняла, к кому это относится – к ней или к селедке, и от смущения не могла есть.
Потом начался разговор.
– Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.
Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!
Наискосок от нее сидела высокая полная дама кариатидного типа. Красивая, величественная.
Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму:
– Правда, какая интересная?
Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:
– Ничего себе мордашка.
Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.
Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».
– Детка! Вы смеетесь над Вовочкой!
– Какой Вовочкой? – удивилась Лизочка.
– Надо мной! Я Вовочка! – надув губки, капризничала орлиная голова.
– Какой вы странный! – удивлялась Лизочка. – Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.
– Мне пятьдесят лет! – строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.