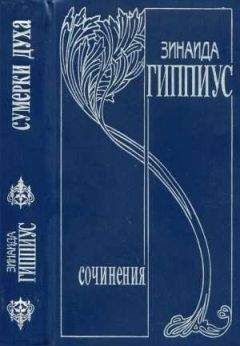За дверями столпились барышни и кавалеры, стараясь не шуметь. Анюта стояла посредине комнаты. Петя, зная, что его слушают, хотел отличиться и насмешить компанию, но, вероятно, крепкая наливка рассеяла его мысли, потому что он не придумал ничего лучше, как с шумом опуститься на колени и запел:
Я вас люблю и вы поверьте…
За дверями послышался шум и смех. Кто-то захлопал в ладоши. Петя продолжал романс, а публика мало-помалу выходила из засады.
Анюта смотрела, побледневшая, не понимая. Потом она опустилась на стул и заплакала, повторяя:
– Вы не смеете, не смеете!.. Это подло!.. Я Глафире Львовне расскажу!
Мадам Горлякова уже входила в комнату. Анюта бросилась навстречу.
– Глафира Львовна… скажите ему… Это нельзя, пусть он не смеет… Я ничего ему не делала…
Мадам Горлякова едва выслушала дело и вдруг совершенно неожиданно принялась кричать на Анюту и сделалась при этом еще больше похожа на кухарку или экономку:
– Да что вы в самом деле? Шуток не понимаете? Вы приняты как равная, Петя, жалея вас, танцует с вами, а вы что себе воображаете, уж и пошутить с вами нельзя, а? Скажите, принцесса какая!..
Я не дослушала, втихомолку прокралась в переднюю, нашла свою горничную и уехала домой. По дороге я вспомнила слова Анюты после выговора г-жи Ролль:
«И отчего это так всегда? Отчего я всегда, всегда самая виноватая?»
VIII
Георгий Данилович Маремьянц, окончив курс медиком в Харьковском университете, решил попытать счастья в столице. Родной Тифлис ему казался захолустною провинцией даже перед Харьковом. Если уж добиваться чего-нибудь, то, конечно, в Москве или Петербурге. А Георгий Данилович знал, что он добьется. Посидит год, два, ну, три без практики, поест колбасу и ситный, а потом явится и практика, и рысак свой, и кабинет, хорошо убранный. У Георгия Даниловича была такая наружность, перед которой из пятидесяти одна женщина могла устоять. Рост высокий, волосы курчавые, черные как смоль, лицо белое и румяное, глаза огненные, хотя нельзя сказать, чтоб очень выразительные. Такие лица созданы исключительно для того, чтобы пленять женские сердца, и сам Георгий Данилович знал, что его фортуна – в дамских ручках. Поэтому и взгляды он себе выработал соответственные. С пациентками нужно быть нежным, предупредительным, терпеливым; с коллегами и профессорами – наивным и благоговейным; во всех делах честным, благородным и благородства своего отнюдь не скрывать; давно уже Георгий Данилович сообразил, что честным быть гораздо умнее и выгоднее, а всегда вообще следовало показывать вид, что знаешь нечто про себя, чего другим не хочешь сказать из скромности. Это при всех случаях годилось. И Георгий Данилович бодро переносил нужду в чаянии будущих благ. Целую зиму провел он в Москве; к весне практики у него становилось все больше и больше.
Он отнюдь не брезговал скромными домами, каков был наш, тем более что нам его рекомендовал старичок доктор, имевший большую практику, – он должен был уехать. Я всю зиму пролежала в постели. В пансионе я простудилась и схватила сильный плеврит. Отчасти я радовалась, что отделалась от ненавистной m-me Ролль, и беспрерывно упрекала мачеху.
– Вот вы послушались дяди Эди, отдали меня в пансион и я чуть не умерла… Конечно, вы мне не родная мать, я не могу требовать любви.
Мачеха плакала и обещала мне никогда больше не слушать дядю Эдю.
В феврале я стала поправляться. Но было решено, что весной мы поедем в Крым – мачеха боялась за мое здоровье. Новый доктор мне нравился. Он часто засиживался у нас, пил чай, болтал, декламировал стихи и даже показывал фокусы, – он был мастер на все руки.
Анюта Кузьмина прибегала ко мне почти каждый день. Сначала она дичилась Георгия Даниловича, который обращался с ней чрезвычайно вежливо и предупредительно, шутил, но я ни разу не заметила в нем насмешки, вероятно, потому, что он отличался сообразительностью, а мне было только шестнадцать лет.
Мало-помалу смущение Анюты совершенно прошло. Она даже сделалась особенно весела и развязна в его присутствии, хохотала, бегала, прыгала, как маленькая девочка, и болтала вздор. Уже не проходило ни одного визита доктора без Анюты. Она торопила самовар для него, доставала варенье, суетилась, но иногда вдруг притихала, садилась в уголок и смотрела оттуда на розовое лицо Маремьянца с глубоким и наивным обожанием.
Дня за три до нашего отъезда я лежала в зале на кушетке и читала. Снег давно сошел. Выставили окна. Погода стояла жаркая, не апрельская. В соседнем монастыре звонили к вечерне. Ветер едва шевелил белыми спущенными занавесками на окнах. Сквозь занавески солнце ложилось на пол теплыми, матовыми пятнами. Я опустила книгу и закрыла глаза. В доме было тихо. Вдруг я услышала стук колес по скверной мостовой нашего переулка. Через минуту позвонили. Вошел Маремьянц.
Мы ждали его вечером, и я удивилась. Он показался мне не то смущенным, не то более обыкновенного таинственным.
Пришла мачеха. Мы стали говорить о нашей поездке, о моем здоровье.
Вдруг Маремьянц придвинул свой стул ко мне и сказал, переменив тон:
– Видите, я хотел вас спросить: вы друг Анны Николаевны, не правда ли?
– Да, – отвечала я недоумевая. Маремьянц помолчал.
– Вчера я имел удовольствие видеть Анну Николаевну у себя… Признаюсь, я удивился.
– Анюту? – изумилась я. – Она приходила к вам? Зачем?
– Анна Николаевна, кажется, беспокоилась насчет состояния вашего здоровья, просила меня быть откровенным. Я мог только сказать истинную правду, что болезнь ваша окончательно прошла.
Мачеха смотрела с беспокойством, а я ничего не понимала.
– Да… И пожалуйста, Марья Александровна… – Тут Маремьянц смутился или сделал вид, что смутился, и опустил глаза с длинными ресницами, – вы ее друг… имеете на нее влияние… Она такая восторженная… и, кажется, безрассудная… Сколько я мог понять… Поверьте, мне очень, очень неприятно.
Сначала я в удивлении глядела на доктора, потом вдруг поняла и расхохоталась. Анюта влюблена в Маремьянца! Бедная Анюта! А между тем у меня было опять злорадное чувство.
Георгий Данилович посмотрел на меня строго и вздохнул. Я поняла, что он находит мой смех неуместным, и сконфузилась.
Разговор не клеился. Георгий Данилович, прилично-грустный, встал и начал прощаться. Мачеха, которая все время молчала, пошла проводить его в переднюю и я слышала, как они там долго и горячо рассуждали.
Вернувшись, мачеха сказала мне:
– В самом деле, Маня, поговори с Анютой. Я вполне понимаю Георгия Даниловича. Ему, должно быть, ужасно неприятно; он такой скромный, благородный, и сердце у него прекрасное.
Мне было уже не смешно. Я вдруг страшно рассердилась на Анюту. Что, в самом деле? Надо же немного знать приличия! И что она ему наговорила?
У Анюты давно начались экзамены и она приходила только по вечерам. Маремьянц постоянно спрашивал ее, как идут дела, и шутил, что она провалится. В этот день она тоже пришла вечером. Она была тише и печальнее, чем всегда. Даже волосы на лбу не подвила и, вместо желтого, как яйцо, платья, в котором она щеголяла последнее время, она осталась в сером, пансионском, с черным передником.
– Георгий Данилович не будет сегодня, – сказала я холодно.
– Не будет?
– Он заезжал днем… Поди сюда, Анюта, я хочу с тобой поговорить.
Я разыгрывала роль старшей сестры. Анюта покорно подошла и села около меня.
Продолжать в спокойно-холодном тоне я не сумела и вдруг вспыхнула.
– Это безобразие, Анюта, что ты делаешь? Зачем ты была у Георгия Даниловича? Ты держать себя не умеешь… Лезешь к человеку, выдумываешь предлоги… И что ты ему наговорила? Пожалуйста, не отпирайся. Он при всех рассказывал.
– Он рассказывал? – проговорила Анюта. – Ну, пусть. Ну, что ж! Разве я скрываю? Я его люблю.
– Скажите, пожалуйста, любит! – закричала я еще громче. – Да что ты себе вообразила?
– Я ничего не вообразила, – тихо и твердо сказала Анюта. – Я ничего не думала… Я только видеть его хотела. Вы уезжаете. И он уезжает в Петербург. Разве я ему сделала дурное? Я ничего не просила и не тронула его… Я совсем нечаянно сказала, что готова умереть от горя, когда он уедет. Ведь так недолго осталось.
– Да ты понимаешь ли, что ты не должна…
Анюта вдруг поднялась и встала передо мною. Я невольно замолчала.
– Не должна? Чего не должна? Я никого не обидела! Маня, ты думаешь, что если я убогая, так мне уж и не хочется, хоть немножко… себе ничего не хочется? И не смею я минуточку на солнце погреться? Не должна, убогая! Пусть сидит в темном углу! Нельзя ей и взглянуть, только взглянуть, один раз на прощанье!
Анюта говорила, а из круглых, немигающих глаз катились слезы.
Мне было стыдно; я молчала.
Анюта вдруг успокоилась, подошла к столу и взяла свою шляпу.