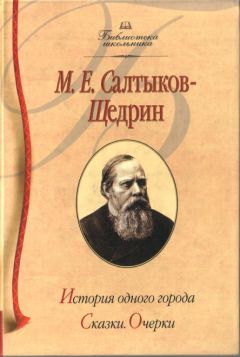В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирною и ливаном, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.
Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии — бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что "как-никак, а придется в поле с сохою выйти", но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие.
Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. "Для сего, — говорил он, — уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок".
Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. "И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти", — присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: "Не взыщи!"
Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: "Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!" — но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался "восхищением".
Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? — определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверят, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.
Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова, всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, — разумеется, без ведома хозяина, — досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду ("только ложка в руке его задрожала", говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом, чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства, так что когда штаб-офицеру, из учтивости, предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.
И был тот штаб-офицер доноситель…
Несмотря на то, что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрывалось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот, эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги: "О восхищениях благочестивой души"…
В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начали слегка вздрагивать; но едва Грустилов, в качестве председателя собрания, начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства… Но было уже поздно.
У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор…
Но что это был за взор… О, Господи! что это был за взор!..
Подтверждение покаяния. Заключение
Он был ужасен.
Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. "Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня".
Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, каким были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом… То был взор, светлый, как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.