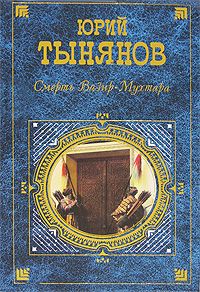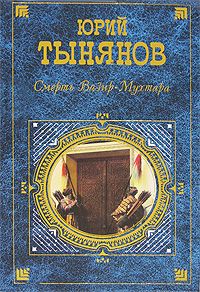Тогда Прасковья Николаевна собралась с духом, она была всегда быстра на решения, и решила разыграть дом и сад в лотерею. Деревянному дому грозил оборот в лотерейном ящике. Она собрала сорок четыре тысячи рублей этой лотереей, которые легли в опеку, и тогда князь Чавчавадзе, генерал Александр Герсеванович, отдал своих детей Прасковье Николаевне. Вместе с тем генерал, считая, что лотерея невыгодна и что если б отремонтировать дом, так можно бы его продать и за шестьдесят и, может быть, за все семьдесят, уговорил Прасковью Николаевну взять те сорок четыре тысячи из опеки. Тотчас оказалось, что хотя кабальные земледельцы князя платили исправно и по две и по четыре коды пшеницы, но у него на двадцать пять тысяч долгов, и Прасковья Николаевна ему эти двадцать пять тысяч дала взаймы. Они быстро исчезли. Генерал был удалец, хват, он был поэт, переводил Байрона и Пушкина на грузинский язык, знал Гете наизусть – деньги у него текли, как вино.
Тогда приехал из корпуса Егорушка: то ли корпус ему не понравился, то ли за полгода он прожился.
Дом, однако же, стоял, лотерея ему была нипочем.
Сад разрастался.
Девушки в нем смеялись по вечерам.
Сонечкин муж, полковник Муравьев, приехал из похода и уж как-то распорядился, отсрочил знаменитые лотерейные билеты, частью покрыл их, а потом махнул рукой и опять уехал в полк.
Кажется, эти лотерейные билеты потом исподволь погашались. Вернее, они сами собою угасали. В каких-то рыбных промыслах и стеклянных акциях догорало Егорушкино и Сонечкино наследство.
Вырастали Дашенька, Егорушка, Нина, Катенька и Давыдчик. И к Прасковье Николаевне хаживали разные гости, в большом числе.
Птенец из С.-Петербурга или из Москвы мог незаметно остаться в доме и даже впоследствии времени оказаться пасынком, племянником, внучатым братом, какой ни на есть роднею можно было счесться.
Он помнил первые дни, первые месяцы своего здесь пребывания. Медленно освобождался он ото сна; двигался как тень, точно привороженный Москвой и Петербургом; отсутствовал душою. Город, женщины, небо, базар были для него непонятны, как говор на улицах. А говор был воздушный и захлебывающийся, спотыкающийся, неумолкаемый. А потом, как-то раз, поднимаясь здесь на гору к Ахвердовым, он вдруг понял, что любит это всеобщее тифлисское знакомство и восточную общежительность, что он выздоровел. И говор стал языком: он стал прислушиваться, гулять по вечерам. И тогда московский свет, который он оставил, стал редеть, сквозить и сделался непонятен. Он перестал его бояться, и вскоре московские тетушки издали показались и вовсе смешными. Остались в памяти ужимки кузин и женские обиды, хвастовство старичков московских, их покровительство и суетня бессмысленная, у шуб, в передних. Решил, что не ездок туда, и тогда, как бы с отдаленной точки, увидел себя в Москве и ужаснулся сам себе: ведь всего три месяца назад он был на ходу сделать такое дурачество – жениться на какой-то кузине и жить в Москве. Слава богу, что она догадалась замуж выйти. Так он оглянулся на город, и так началось его «Горе» – с тифлисского пункта, с горы Давида. Тут было пространство.
Потом Тифлис стал его оседлостью, стал как вторая родина, и он его перестал видеть со стороны, как не замечают люди собственного дыхания. А теперь недолгая отлучка снова выбила его из колеи. И он, как бывало, оглянулся вниз, на город, и опять, как восемь лет назад, увидел внутренности дворов и клетки галерей, балконов, простые человеческие соты. Он толкнул калитку.
В саду никого не было; густой виноград рос шпалерами, и аллеи шли глубокими, сырыми и душными просеками. В стороне, в большой виннице – марани слышались голоса работников, обновляли гулкие громадные кувшины – куеври; слышался неподалеку водопровод. Только эти звуки и были прохладны; до вечера было еще далеко. Он вошел в дом.
Когда они все были маленькие, у них были секреты. Они боялись старика угольщика, который проходил мимо. Они жались, бежали к Прасковье Николаевне. Грибоедов дразнил их. Он сочинил песенку:
Детушки матушке жаловались,
Спать ложиться закаивались,
Больно тревожит нас дед-непосед.
Он певал эту песенку, сидя за фортепьяно, и дал фамилию угольщику: Психадзе. Так назывались разбойничьи шайки на кавказских дорогах. Он делал большие глаза и говорил шепотом: Психадзе.
Вокруг дома бродили психадзы, а дома пели сверчки, домашние психадзы.
Теперь они все разом выросли. Барышни были на выданье, а психадзы занимались действительным грабежом на больших дорогах. Что делать с неожиданным ростом барышень, Прасковья Николаевна догадывалась. Только что ушли гости: маркиз Севиньи (грек или француз), который смотрел на Дашеньку приоткрыв рот, как усталый от трудов ремесленник, исполнивший трудный заказ и задумавшийся над ним; губернатор, молодой поляк Завилейский – балкон Прасковьи Николаевны был тем же для Тифлиса, чем салон Нессельрода для Петербурга; откупщик Иванов, действительный статский советник, которого Ермолов звал кратко: подлец, – у которого были рыбные промыслы на Сальянах и очутилось большинство лотерейных билетов на сад;
Бурцова Софья Федоровна, полковница, у которой муж был на войне, и госпожа Кастеллас, француженка (или испанка), жена шелкового плантатора и фабриканта, великолепное явление.
Последним ушел значительный гость дома, капитан Искриц-кий, племянник Фаддея.
Его чин был малый, но у него было особое положение – он был ссыльный, замешанный.
Прасковья Николаевна была вольнодумицей. Она с гордостью рассказывала всем, что есть приказ из Петербурга следить за Николаем Николаевичем Муравьевым, Сонечкиным мужем. Она рассказывала это громким шепотом и содрогалась. И правда, был такой приказ: следить за Николаем Николаевичем, потому что многие его однофамильцы замешаны в бунте.
Искрицкий был племянник Фаддея, капитан-топограф, ссыльный, но, глядя на белобрысую голову, Грибоедов никак не мог понять, почему он герой. Однако, когда капитан огорчился, что Фаддей совсем позабыл о нем и не велел даже поклона передать, Грибоедову стало его жалко. Вскоре он ушел.
И тут появилась прямая психадза: Давыдчик со своими друзьями, и с ними вернулся Завилейский, они его вернули с полпути. Все они громко разговаривали, много смеялись, потом сразу притихли и снова куда-то убежали – в сад. Он знал их всех с самого детства. А теперь они все выросли, стали говорливы, подвижны. И он удивился новой всеобщей дружбе с Завилейским, человеком сторонним. Ему рассказали все тифлисские новости – им любовались.
Грибоедов глядел на Нину, она была полусонная, и тяжелая, несмотря на ранний возраст, потом поглядел на княгиню Саломе, очень увядшую и равнодушную, засмотрелся на смешливую Дашеньку, совершенную прелесть; Сонечка, только что кормившая ребенка, пристально смотрела на него. Он был в нее когда-то влюблен, как и все молодые люди, бывавшие у Ахвердовых. Он усадил Нину за фортепьяно, рассеянно похвалил фортепьяно за обшитые кожей молоточки и нашел, что Нина утратила беглость пальцев.
Старшие ушли, чтоб не мешать внезапному уроку. Сонатина, которую они разыграли, была механическим повторением пройденного.
Но тут за окном брякнула гитара, как будто только и дожидалась Ниночкина фортепьяна. Где-то поблизости, напротив, в переулке, сладостный и жидкий голос запел:
И Нина засмеялась, приоткрыв рот, как ранее не делала…
Грибоедов вдруг оживился. Он слушал.
В доме напротив, из-за деревьев, в открытое окно виднелся конец молодого носа, поднятого кверху, и из-под расстегнутого ворота бился и трепетал галстук.
Нина и Дашенька смеялись, глядя друг на друга. И Грибоедов ожил. Какая, однако же, прелесть Дашенька!
В горах я встретила черкеса…
Певец взял слишком высоко и пустил петуха.
Лунный свет падал на черные листья, а из окна влюбленного молодого в галстуке человека, который не мог быть не кем иным, как коллежским асессором, – падал другой, теплый желтый свет на улицу. Это был тот самый глупый лунный свет, который воспевали толпы поэтов и над которым он вдоволь посмеялся. Асессор влюблен и поет самые плоские романсы.
Но вступив в эту полосу света, Грибоедов вздохнул и понурился. Асессорский свет был теплый, желтый, мигал и колебался, ветер задувал свечу. Что же за власть, за враждебное пространство опять отделило его от глупого, смешного, радостного до слез асессорского света?
Навсегда ли отягчело над ним его же неуклюжее и со зла сказанное слово: горе от ума?
Откуда этот холод, пустой ветерок между ним и другими людьми?
Он вышел из полосы света.
Двое шли перед ним и тихо разговаривали.
Он не обогнал их. Медленно шел он за ними, благословляя человеческие спины, мягкого и сырого в полумраке цвета. Случайные люди на улице, случайные спины прохожих, – благословение вам!