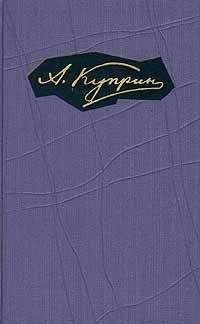— Це, це, це, — почмокал языком князь.
— Что это значит, ишак тифлисский?
— А купишь ей швейную машинку?
— Почему именно швейную машинку? Не понимаю.
— Всегда, душа мой, так в романах. Как только герой спас бедное, но погибшее создание, сейчас же он ей заводит швейную машинку.
— Перестань говорить глупости, — сердито отмахнулся от него рукой Лихонин. — Паяц!
Грузин вдруг разгорячился, засверкал черными глазами, и в голосе его сразу послышались кавказские интонации.
— Нет, не глупости, душа мой! Тут одно из двух, и все с один и тот же результат. Или ты с ней сойдешься и через пять месяцев выбросишь ее на улицу, и она вернется опять в публичный дом или пойдет на панель. Это факт! Или ты с ней не сойдешься, а станешь ей навязывать ручной или головной труд и будешь стараться развивать ее невежественный, темный ум, и она от скуки убежит от тэбэ и опять очутится либо на панели, либо в публичном доме. Это тоже факт! Впрочем, есть еще третья комбинация. Ты будешь о ней заботиться, как брат, как рыцарь Ланчелот, а она тайком от тебя полюбит другого. Душа мой, поверь мне, что женшшына, покамэст она женшшына, так она — женшшына. И без любви жить не может. Тогда она сбежит от тебя к другому. А другой поиграется немножко с ее телом, а через три месяца выбросит ее на улицу или в публычный дом.
Лихонин глубоко вздохнул. Где-то глубоко, не в уме, а в сокровенных, почти неуловимых тайниках сознания промелькнуло у него что-то похожее на мысль о том, что Нижерадзе прав. Но он быстро овладел собою, встряхнул головой и, протянув руку князю, произнес торжественно:
— Обещаю тебе, что через полгода ты возьмешь свои слова обратно и в знак извинения, чурчхела ты эриванская, бадриджан армавирский, поставишь мне дюжину кахетинского.
— Ва! Идет! — Князь с размаху ударил ладонью по руке Лихонина. — С удовольствием. А если по-моему, то — ты.
— То я. Однако до свиданья, князь. Ты у кого ночуешь?
— Я здесь же, по этому коридору, у Соловьева. А ты, конечно, как средневековый рыцарь, положишь обоюдоострый меч между собой и прекрасной Розамундой? Да?
— Глупости. Я сам было хотел у Соловьева переночевать. А теперь пойду поброжу по улицам и заверну к кому-нибудь: к Зайцевичу или к Штрумпу. Прощай, князь!
— Постой, постой! — позвал его Нижерадзе, когда он отошел на несколько шагов, — Самое главное я тебе забыл сказать: Парцан провалился!
— Вот как? — удивился Лихонин и тотчас же длинно, глубоко и сладко зевнул.
— Да. Но ничего страшного нет: только одно хранение брошюрятины. Отсидит не больше года.
— Ничего, он хлопец крепкий, не раскиснет.
— Крепкий, — подтвердил князь.
— Прощай!
— До свиданья, рыцарь Грюнвальдус.
— До свиданья, жеребец кабардинский.
Лихонин остался один. В полутемном коридоре пахло керосиновым чадом догоравшей жестяной лампочки и запахом застоявшегося дурного табака. Дневной свет тускло проникал только сверху, из двух маленьких стеклянных рам, проделанных в крыше над коридором.
Лихонин находился в том одновременно расслабленном и приподнятом настроении, которое так знакомо каждому человеку, которому случалось надолго выбиться из сна. Он как будто бы вышел из пределов обыденной человеческой жизни, и эта жизнь стала для него далекой и безразличной, но в то же время его мысли и чувства приобрели какую-то спокойную ясность и равнодушную четкость, и в этой хрустальной нирване была скучная и томительная прелесть.
Он стоял около своего номера, прислонившись к стене, и точно ощущал, видел и слышал, как около него и под ним спят несколько десятков людей, спят последним крепким утренним сном, с открытыми ртами, с мерным глубоким дыханием, с вялой бледностью на глянцевитых от сна лицах, и в голове- его пронеслась давнишняя, знакомая еще с детства мысль о том, как страшны спящие люди, — гораздо страшнее, чем мертвецы.
Потом он вспомнил о Любке. Его подвальное, подпольное, таинственное «я» быстро-быстро шепнуло о том, что надо было бы зайти в комнату и поглядеть, удобно ли девушке, а также сделать некоторые распоряжения насчет утреннего чая, но он сам сделал перед собой вид, что вовсе и не думал об этом, и вышел на улицу.
Он шел, вглядываясь во все, что встречали его глаза, с новым для себя, ленивым и метким любопытством, и каждая черта рисовалась ему до такой степени рельефной, что ему казалось, будто он ощупывает ее пальцами… Вот прошла баба. У нее через плечо коромысло, а на обоих концах коромысла по большому ведру с молоком; лицо у нее немолодое, с сетью морщинок на висках и с двумя глубокими бороздами от ноздрей к углам рта, но ее щеки румяны и, должно быть, тверды на ощупь, а карие глаза лучатся бойкой хохлацкой усмешкой. От движения тяжелого коромысла и от плавной поступи ее бедра раскачиваются ритмично то влево, то вправо, и в их волнообразных движениях есть грубая, чувственная красота.
«Бедовая бабенка, и прожила она пеструю жизнь», — подумал Лихонин. И вдруг, неожиданно для самого себя, почувствовал и неудержимо захотел эту совсем незнакомую ему женщину, некрасивую и немолодую, вероятно, грязную и вульгарную, но все же похожую, как ему представилось, на крупное яблоко антоновку-падалку, немного подточенное червем, чуть-чуть полежалое, но еще сохранившее яркий цвет и душистый винный аромат.
Перегоняя его, пронесся пустой черный погребальный катафалк; две лошади в запряжке, а две привязаны сзади, к задним колонкам. Факельщики и гробовщики, уже с утра пьяные, с красными звероподобными лицами, с порыжелыми цилиндрами на головах, сидели беспорядочной грудой на своих форменных ливреях, на лошадиных сетчатых попонах, на траурных фонарях и ржавыми, сиплыми голосами орали какую-то нескладную песню. «Должно быть, к выносу торопятся, а пожалуй, уже и закончили, — подумал Лихонин, — веселые ребята!» На бульваре он остановился и присел на низенькую деревянную, крашенную зеленым скамейку. Два ряда мощных столетних каштанов уходили вдаль, сливаясь где-то далеко в одну прямую зеленую стрелу. На- деревьях уже висели колючие крупные орехи. Лихонин вдруг вспомнил, что в самом начале весны он сидел именно на этом бульваре и именно на этом самом месте. Тогда был тихий, нежный, пурпурно-дымчатый вечер, беззвучно засыпавший, точно улыбающаяся усталая девушка. Тогда могучие каштаны, с листвой широкой внизу и узкой кверху, сплошь были усеяны гроздьями цветов, растущих светлыми, розовыми, тонкими шишками прямо к небу, точно кто-то по ошибке взял и прикрепил на все каштаны, как на люстры, розовые елочные рождественские свечи. И вдруг с необычайной остротой Лихонин почувствовал, — каждый человек неизбежно рано или поздно проходит через эту полосу внутреннего чувства, — что вот уже зреют орехи, а тогда были розовые цветущие свечечки, и что будет еще много весен и много цветов, но той, что прошла, никто и ничто не в силах ему возвратить. Грустно глядя в глубь уходящей густой аллеи, он вдруг заметил, что сентиментальные слезы щиплют ему глаза.
Он встал и пошел дальше, приглядываясь ко всему встречному с неустанным, обостренным и в то же время спокойным вниманием, точно он смотрел на созданный богом мир в первый раз. Мимо него прошла по мостовой артель каменщиков, и все они преувеличенно ярко и цветисто, точно на матовом стекле камер-обскуры, отразились в его внутреннем зрении. И старший рабочий, с рыжей бородой, свалявшейся набок, и с голубыми строгими глазами; и огромный парень, у которого левый глаз затек и от лба до скулы и от носа до виска расплывалось пятно черно-сизого цвета; и мальчишка с наивным, деревенским лицом, с разинутым ртом, как у птенца, безвольным, мокрым; и старик, который, припоздавши, бежал за артелью смешной козлиной рысью; и их одежды, запачканные известкой, их фартуки и их зубила — все это мелькнуло перед ним неодушевленной вереницей — цветной, пестрой, но мертвой лентой кинематографа.
Ему пришлось пересекать Ново-Кишиневский базар. Вдруг вкусный жирный запах чего-то жареного заставил его раздуть ноздри. Лихонин вспомнил, что со вчерашнего полдня он еще ничего не ел, и сразу почувствовал голод. Он свернул направо, в глубь базара.
В дни голодовок, — а ему приходилось испытывать их неоднократно, — он приходил сюда на базар и на жалкие, с трудом добытые гроши покупал себе хлеба и жареной колбасы. Это бывало чаще всего зимою. Торговка, укутанная во множество одежд, обыкновенно сидела для теплоты на горшке с угольями, а перед нею на железном противне шипела и трещала толстая домашняя колбаса, нарезанная кусками по четверть аршина длиною, обильно сдобренная чесноком. Кусок колбасы обыкновенно стоил десять копеек, хлеб — две копейки.
Сегодня на базаре было очень много народа. Еще издали, протискиваясь к знакомому любимому ларьку, Лихонин услыхал звуки музыки. Пробившись сквозь толпу, окружавшую один из ларьков сплошным кольцом, он увидал наивное и милое зрелище, какое можно увидеть только на благословенном юге России. Десять или пятнадцать торговок, в обыкновенное время злоязычных сплетниц и неудержимых, неистощимых в словесном разнообразии ругательниц, а теперь льстивых и ласковых подруг, очевидно, разгулялись еще с прошлого вечера, прокутили целую ночь и теперь вынесли на базар свое шумное веселье. Наемные музыканты — две скрипки, первая и вторая, и бубен — наяривали однообразный, но живой, залихватский и лукавый мотив. Одни бабы чокались и целовались, поливая друг друга водкой, другие — разливали ее по рюмкам и по столам, следующие, прихлопывая в ладоши в такт музыке, ухали, взвизгивали и приседали на месте. А посредине круга, на камнях мостовой, вертелась и дробно топталась на месте толстая женщина лет сорока пяти, но еще красивая, с красными мясистыми губами, с влажными, пьяными, точно обмасленными глазами, весело сиявшими под высокими дугами черных правильных малорусских бровей. Вся прелесть и все искусство ее танца заключались в том, что она то наклоняла вниз головку и выглядывала задорно исподлобья, то вдруг откидывала ее назад и опускала вниз ресницы и разводила руки в стороны, а также в том, как в размер пляске колыхались и вздрагивали у нее под красной ситцевой кофтой огромные груди. Во время пляски она пела, перебирая то каблуками, то носками козловых башмаков: