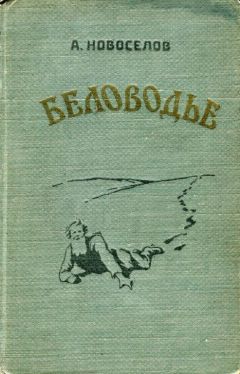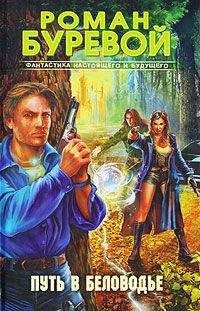Аннушка помолчала, прыснула и захохотала — разлилась ручьями.
Васса строго оглянулась.
— Ой, беда да и только! — спотыкаясь и путаясь в траве звенела Аннушка. — Ой! Ха-ха-ха!.. Надеть бы бисер да ленты, косы бы с кистями выпустить, да к слу-ужбе!.. Ха-ха-ха!
У Вассы губы дрогнули и потянулись уголками по щекам.
— Придумала же, подь ты к черту! Ксении тогда — конец, как увидит — на месте остынет. Не отсоборуешь.
— Ой!.. Не могу!..
— Параскеву — вот бы скрючило-то.
Васса круто и решительно остановилась.
— А есть у тебя бисер? Приехала-то вон какая!
— Завалилось, однако.
— Дай. Ей богу надену. К одному уж мне с ними грешить.
— Не дури, девка.
— А мне чего? Так ли, этак ли — в добры не войти.
— Полезем вон на те голыши.
— На каменушку?
Но, не дождавшись ответа, Васса пошла впереди по крутинам, по россыпи.
Тянуло к вершинам, на волю, подальше от обители. Зеленовато-голубые острые осколки россыпи под ногами сползали со звоном, а утес вырастал, поднимался, вставал над самой головой, закрывая собой небо.
— Страшно, девка!.. Не залезти! — кричала Аннушка, цепляясь свободной рукой.
— Лезь, лезь… Сама сманила.
Васса еще раньше подоткнула подол за пояс и карабкалась по-мужичьи, широко разбрасывая ноги.
Долго не могли отдышаться, когда всползли на широкий каменный уступ. Глыбы камней, выпирая из черной и жирной мякоти, громоздились одна на другую, холодные, морщинистые со всех сторон обитые, обклеванные.
По щелям густыми темными плетями стлался вереск. Здесь пропал шум речушки. Было жутко, тихо. Солнце ушло еще выше. Берега небесной сини раздались, раздвинулись — были вот совсем за ближними горами, а теперь отхлынули, и впереди их выросли новые горы. Сверху все казалось новым, праздничным. Как на потеху ребятишкам сделанные досужей умелой рукою, сквозь вершины пихт и елей на зеленом коврике чернели теремки. Длинной нитью частого граненого бисера развернулась по ковру речонка.
— Сердце мрет, как посмотришь, — передернулась Аннушка, усаживаясь глубже на камень.
Васса улыбнулась по-хорошему, попросту.
— Давай лучше съедим всю ягоду.
Она горстью почерпнула из туяса и, откинув голову, набила полный рот.
— Сдурела!
— На…бе…рем!..
Васса жадно жевала и тянулась опять.
— Пить шибко хочется, — оправдывалась Аннушка, бросая в рот ягоду. Рука быстро забегала от туяска к губам. Ели молча, со вкусом.
— Вот этак же… — вспомнила Аннушка свое далекое: — в Барсучихе на полянке…
— Ну?
— Собрались ребята… Девок нету — все по ягоды хлынули… Я как раз урвалась с заимки… все ненастье мочило… а тут… день такой — разгуляло… На полянке ребятам тоска без девок… Уж чего не придумывали… ухватились за чернушенского ямщика, Семенку…
Васса вздрогнула, повернула строгое холодное лицо, перестала жевать.
— Ну?
— Ну, наткнулись на Семенку… Сам поехал, привозил урядника, да наелся сердешный где-то пива, знать, у Власихи. Не успел полдеревни проехать, под беседку закатился. Кони шагом пошли. За деревню выплелись да прямо к амбарам — в тень, от мошки спасаться. Ну, ребята нахлынули… глядят — Семенка. Сейчас смекнули — выпрягли коней, оглобли сквозь плетень продернули, завели, да опять запрягли. Растискали Семенку… вскочил, слышь, ошалел совсем… Как понужнет… Чего тут бы-ыло! А мы и подошли из сопок с ягодами. Семенка крутился, крутился, ободрало сон-то, побежал за другими… ну, знаешь, пьяный, одно слово… языком сплести не может, и за девками гоняется, у той, у другой хватит ягод, не ждет, глотает… Лушка старостова — галек ему в ягоды, хватил, глонул, да и закрякал… Посинел, слышь… Сначала было хохотать над ним…
— Не могли задавить-то! — вспыхнула Васса. — Холера! Собака паршивая!..
На щеках у ней вспыхнули яркие пятна.
Аннушка притихла.
— Ты чего это, девка? — виновато улыбнулась она.
— Будь он, собака!… — кипела Васса, швыряя в россыпь угловатый камень. — Ни на том бы ему свете, ни на этом… Оторвать бы голову, глаза бы лопнули!..
— Да он что тебе? — допытывалась Аннушка.
Васса проворно стегнула глазами.
— Не тебе одной… Была и я когда-то девкой. Не от радости тоже к волкоеде пришла…
— Вася! Вася!..
— А-а! Вася? Теперь Вася? Была я Васей-то, бы-ла-а!.. Теперь рыжей дурой стала, Вассой… Кабы не этот Семенка, и моя бы жизнь не по-собачьи сладилась.
Она в волнении пересела, серые колючие глаза с покрасневшими веками беспокойно бегали, ловя, на чем остановиться.
— Подвалился женихом!.. Всю весну, все лето шнырил кобелем, ославил на деревню, далась ему, дура, а зимой со свадьбой подкатил… Все честь-честью, сватов заслал… По три раза приходили… Согласилась… А мачеха, сука, разбила, наплела ему такое про меня, что и глаз не показал. Сосватала ему Дуньку Федосьеву, сама-а сосватала, сука… Ей без Вассы куда? Надо бы работника наймовать, а тут готовая, всегда под рукой. На даровщину лестно всякому…
Аннушка дрожала.
— Плюнь ты, Вася!
— А, поди ты!.. Проплевалась и так без остатку… На самое теперь плюют.
— Может, к лучшему все бог устроил. С таким-то тоже мало радости. Какой он человек?
— Какой ни есть, а в старых девках не осталась бы! — кричала Васса. — Может, все равно не миновала бы Ксении, да пришла бы с законом, а теперь я кто? Кто я? Васка рыжая!..
Она отвернулась и застыла, глядя в темные провалы внизу.
Аннушка разглядывала Вассину спину с жалостью и страхом. Из души просились девичьи хорошие слова, подступали тяжелые слезы, но сказать — взъершится, наплетет чего попало.
«Рассказать бы ей тоже, все до капельки»…
— Вася!
Васса не ответила.
— Вася!
— Ну?
— Научи меня, Вася!.. Замоталась я.
Аннушка с трудом находила слова.
— Помнишь, приезжали Пахомовски?.. Сватался парень-то.
Васса обернулась. Глаза потухли, лицо пересеклось морщинами, и вся она была уставшая, опять покорная.
— Ты про Василия?.. Знаю… Иди, — снова оживилась, пересела ближе.
— Иди. Иди. Хоть за черта, хоть за дьявола. Уходи отсюда. Погинешь.
— Грех ведь, Вася!.. Тяжкий грех… Сама вызвалась, сама пошла, никто не тянул…
— Уходи… Может, мне вот как тошно, только сейчас я с добра тебе говорю. Мирская ты, уходи.
Аннушка ломала руки на коленках.
— Так я это… Никуда не уйду… Нельзя, нельзя, нельзя!..
— Дура ты, Анна! Мудришь над богом. Бог тебе дает дорогу, сам показывает…
— Плетешь, чего не надо! — осердилась Аннушка.
— А по мне — дак хоть век не ходи… Выдерживай тут срок на игуменью… За язык никто не дергал: ты спросила — я сказала. Из меня тоже не шибко выколотишь. — Она усмехнулась. — Год вот здесь ты, а впервой еще толкуем… Тошно мне глядеть на тебя. Без тебя тут лучше было, жила попросту. Молилась да ругалась, а потом опять молилась да опять ругалась. Я — их, они — меня. А ты пришла овечкой этакой… Где бы надо огрызнуться, а ты с угодой да с поклоном. Сирота, подумаешь.
— Да я и так…
Задрожали губы, застелило глаза — Аннушка, рыдая, опрокинулась на бок и уткнула лицо в руки.
— Господи!
Она плакала, вся вздрагивая, и не могла остановиться.
Васса растерялась.
— Вот тебе! Чего ты воешь? Брось. Не первая… Мне, может, вот как подпирает, да молчу… Ну, уймись!
Она говорила непривычные слова, с трудом их подбирая, и, наклонившись, гладила Аннушкину спину и плечи, пока и сама не заплакала. Испугалась, отодвинулась, смахнула слезы рукавом и крепко сдвинула бескровые тонкие губы. Аннушка затихла, расклонилась украдкой и села, неподвижная, с красным опухшим лицом, обхвативши руками коленки. Обе долго молчали. Перед ними на гранитных остряках тревожно перепархивала серенькая птичка, жалобно чирикая, — просила уйти. В жарком солнечном свете за зелеными горами, схоронившими обитель, поднимались новые скалы и сопки, и чем глубже уходили они в дали, тем синее становились их уклоны. За горами, за матерым черным лесом, за студеными бурными речками был грешный мир.
— Синюха, однако, маячит? — спросила чуть слышно Аннушка. Васса улыбнулась.
— В одно слово, девка! Сама разглядываю. Не иначе, как Синюха: ишь, над ней это вьет, ненастье, видно. Не стоит она чистая… А вон это — Глядень… Ощетинился зубьями. Сказывают старики, что будто бы с Китаем воевали, а на Глядень пикеты ставили, — видно оттудова далеко на все стороны.
— Под Синюхой у нас пашни были, — грустно вспоминала Аннушка: — родилось завсегда. Где высохнет, а под Синюхой нет того дня, чтобы дождь не перепал. Соберется к полдню, прыснет и опять разведрит.
— У Большого Гляденя, — оживилась Васса: — в логу в самом Соколовка лежит, э-эвон сопочка повыше других, так за ней.
— На Синюху мы все за малиной ездили, — перебила Аннушка, — вот ложок темнеет, отсюда совсем и не видно, а он большой, версты на три будет. Каменная из него берется. Ключами исходит.