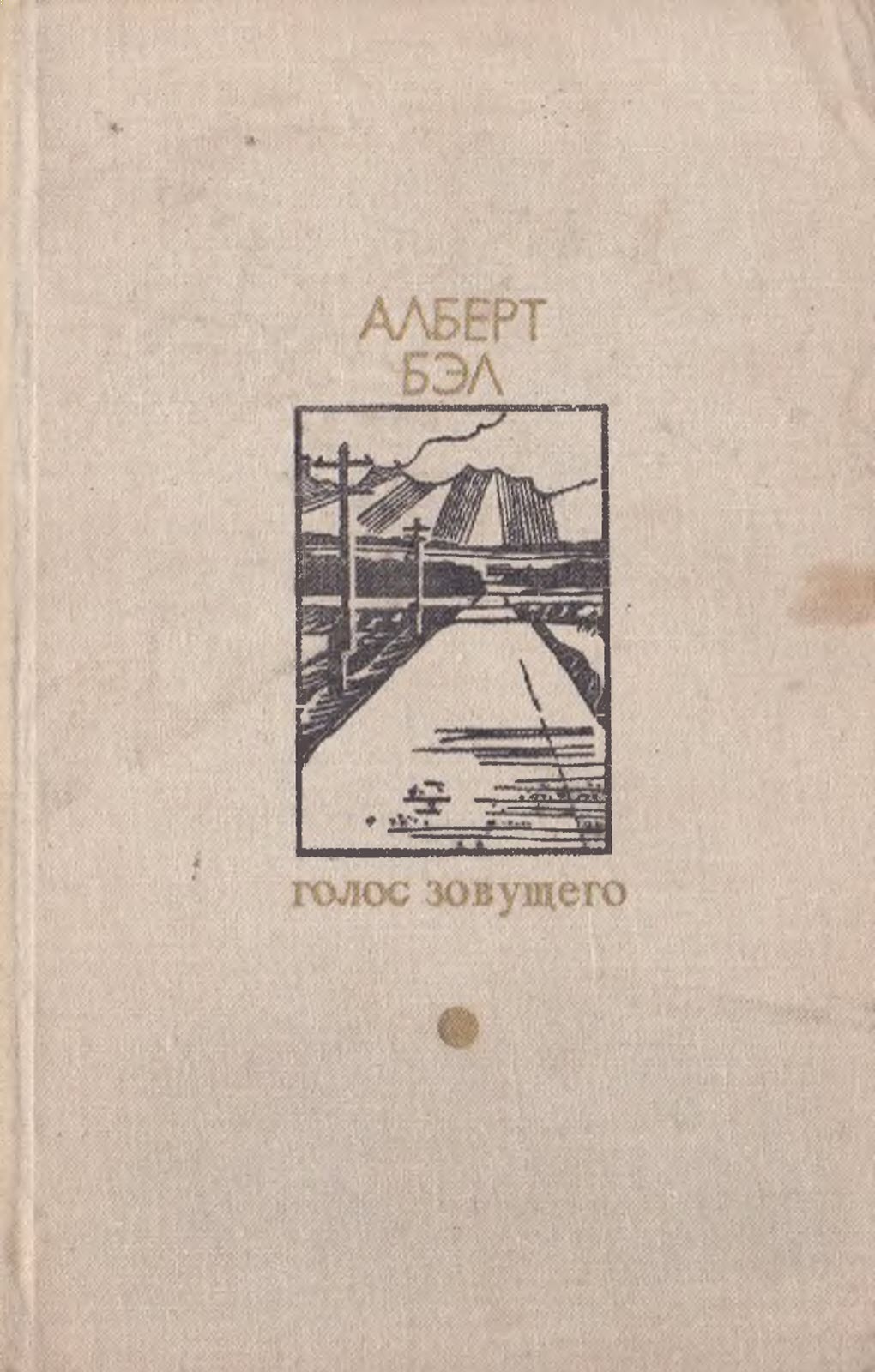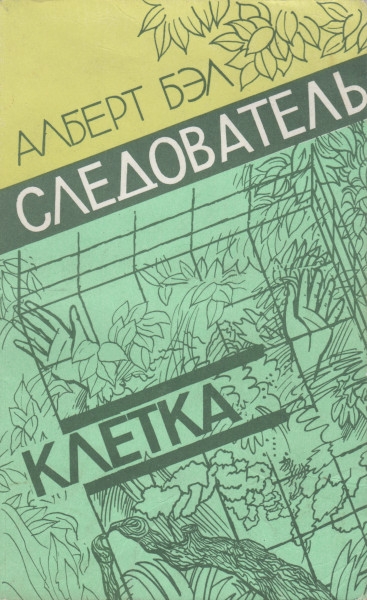«Идет великая война!» Седьмая секунда — Харалд уезжает на фронт, мой брат гренадер, я учусь стрелять из пистолета. С ветки падает яблоко.
Восьмая секунда, девятая секунда — падает яблоня, возвращается Красная Армия, и брат с восторгом следует за ней, мой брат красноармеец. Я хожу в школу. Десятая секунда, одиннадцатая секунда, двенадцатая секунда — в воздушном бою сбит самолет, экипаж погиб, я учусь, я октябренок, я пионер. Тринадцатая секунда, четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая. Неужели во мне ничего не осталось, кроме калейдоскопа лиц, бессвязных обрывков, в которых география перемешалась с алгеброй и английским языком. Еще остались пионерские слеты, веселые игры, песни. Еще остался косяк самолетов в небе над Тушином, косяк самолетов с газетным лозунгом. Это лето пятьдесят второго? СЛАВА? Что было дальше, всем известно.
Семнадцатая секунда, восемнадцатая секунда, девятнадцатая, двадцатая. От семнадцатой секунды у меня остался шифр СЛАВА — СМЕРТЬ. Затем приходит из безвестности мой дед, возвращается Иванов. Рудольф уже закончил институт, работает, перебирается в город. Мы остаемся одни со старой Талме. Двадцатая секунда, и одиннадцать школьных лет позади.
Двадцать первая секунда плюс пять секунд — Художественная академия. Чтобы увидеть, отдалитесь. Чтобы понять, размышляйте по ночам. Чтобы не терять, не присваивайте. Чтобы не терзаться, поднимитесь выше. Будьте искренни, к друзьям приходите, закончив работу, не носите с собою пустых кувшинов, чувствуйте вращение голубой планеты, и пусть глаза ваши будут всегда обращены к солнцу. Но помните: и луна хороша, хотя светится отраженным светом. Дерзайте, будьте! Двадцать шестая секунда, закрылась дверь Академии. Мы мечи, которые кует великий Мастер. Раскалили нас докрасна, на каждый удар молота отзываемся снопом искр и приглушенным стоном. Что нас ждет впереди? Борьба. Жизнь как огонь, как алая кровь. Отливающий холодом клинок меча — рассудок. Да помним: нас держит теплая и твердая рука человечья. Рассудок — меч, сердце — рука. Двадцать седьмая, двадцать восьмая, двадцать девятая секунда. Всего-навсего три самостоятельных секунды? И только? Мало, как мало. Что больше всего сближает людей? Любознательность. Чем обусловлена вторая натура человека? Добрая она или злая? И почему? Есть великая любознательность, и есть мелочное любопытство. Человек проникает в глубь голубой планеты, в облака, в лунный луч, в любовь, в бутон цветка — это и есть великая любознательность, та, на которой зиждется мир. Мелочное любопытство все делит на части, не обращая внимания на единство, целостность. Мелкое любопытство унижает и разрушает, оно бесцельно, оно самоцель. Жизнь человека — тот же бутон и цветок, и ароматы, и затем пожелтевшие листья. Счастье. Оно в том, что самому человеку дано растить, лелеять этот цветок по своей доброй воле. Несчастье в том, если нет этой воли. Роза или репейник? Любопытные, не сжигайте роз. Пепел от роз горек на вкус.

В течение многих лет я не знал, что такое воскресенье. Мастерская заперта на ключ, спецовка сброшена, с рук смыта глина. Но, отмыв руки, художник не отмоет сердца. Оно бьется, оно стучит, сжимается — расширяется, сжимается — расширяется, красными пальцами месит глину, лепит фигурки по своему подобию и в соответствии со своим темпераментом. В такие моменты художник все равно что лунатик, он отвечает невпопад, а то и вовсе не слышит вопросов. Его сердце не дремлет, утром пальцы тщатся вылепить в глине те дуги и линии, что отстучало за ночь сердце. Редко такое удается, но уж если удастся, у художника праздник. Что такое праздник — это он знает.
Как коротка жизнь человека? Шестьдесят минут, шестьдесят секунд, шестьдесят лет, лет, лет, лет. Я слышу о газовых камерах Освенцима, я слышу об атомной камере Хиросимы. Я все представляю. Я понимаю, как это бесчеловечно, я это понимаю. Но люди, эти люди еще живы во мне, уничтожены лишь какие-то строчки с газетных полос, какой-то абстрактный набор из четырех букв «люди». И вдруг наступает момент — я вижу аллею в белом снегу и черные ветви деревьев и слышу детский голосок; «Та, та, та», — и в одно мгновение, в одно неуловимое мгновение меня обдает газом всех камер Освенцима, и гибнут люди, и с огненным шаром взлетает на воздух Хиросима и плавится, словно свеча, попавшая в котел центрального отопления. И я сознаю, что означает смерть. Смерть для других. Обширны людские владения, и редко выдастся день, когда смерть не вторгнется в пределы жизни. Не бывает такого дня.
Если бы я не был столь наивным! Если бы я сразу разгадал, что интерес отца к Рудольфу вызван не любовью, просто мелочным любопытством. Если б я не пригласил к себе брата в тот хмурый зимний вечер. Я не могу, никак не могу отделаться от мысли, что несколько рюмок вина стали причиной его смерти. Скопившиеся в организме яды далекой войны вдруг выпустили жала.
Разве люди виноваты в смерти брата? Разве семья — микромир? Почти половину, и уж, наверное, треть своей жизни мы проводим дома. Микромир сильно влияет на нас, и влияние это потому значительно, что мы воспринимаем его безотчетно. Я рано потерял мать. Я не успел удержать ничего или почти ничего. Я рано потерял старшего брата. Теперь я потерял самого близкого брата. Что я мог удержать? Растет маленький Андрис, дерево не осталось без почек. Я остался один. Человек, как и общество, развивается по спирали. Дуги сливаются, как сливаются бесконечности, и никогда не укажешь точку, откуда начинается новая дуга. Моя первая дуга сломана, я не успел по-настоящему опереться на нее.
Я притащил лестницу из дровяного сарая. Я приставил лестницу к балкону. Я выбил дверное стекло. И вдруг почувствовал себя таким уставшим, каким только может почувствовать себя человек в двадцать девять лет. Начинало смеркаться. Я закурил сигару. Из разбитой двери тянуло сквозняком. Дым затейливо клубился. Кто-то бесшумно вошел в мастерскую и сел напротив. Человек этот был удивительно похож на меня. Сумерки скрывали черты его лица, все заметнее стирали их — будто мягким серым ластиком.
— Я Следователь.
— Я есть я.
— Отвечайте на мои вопросы.
— Спрашивайте.
— Зачем вы это сделали?
— Чтобы понять, какую ценность представляют мои работы.
— Разве для этого их нужно уничтожить?
— Возможно.
— Так какую же ценность представляют ваши работы?
— Что от них толку, если смерть неизбежна.
— Физической смерти никому не избежать. Но существует еще один вид смерти.
— Знаю. Духовная смерть.
— Едва человек перестал сомневаться, он болен. Едва перестал мыслить, он умирает.
— Мне хотелось бы куда-нибудь уехать.
— Бесполезно. От этого не убежишь. Конечно, ты