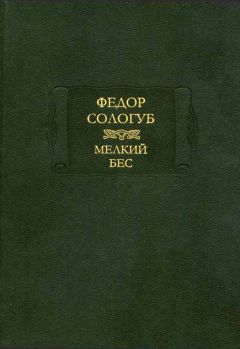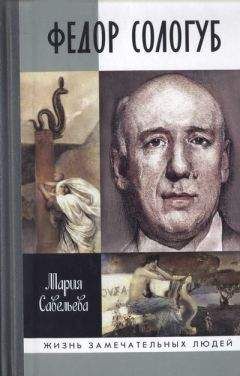Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:
– Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого, – поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.
Ужасом смерти и несказанным восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:
– Если в поцелуе твоем смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!
– Ты хочешь! Ты не боишься! – воскликнула Красавица.
Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие, стройные руки обвились вокруг его шеи.
– Мы умрем вместе! – шептала она. – Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.
– Я пламенею! – шептал Юноша. – Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою – два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.
Тускнела и падала печальная, неживая луна, – и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние легкие вздохи.
Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, – и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.
Когда же и быть странностям, как не в наши дни? Свирепые и печальные дни, когда неистощимым кажется многообразие воплощаемых в жизни возможностей.
Несколько молодых девушек в наши дни составили кружок, доступ в который был довольно труден и цель деятельности которого могла бы, конечно, быть названа странною.
Когда умирал в городе молодой человек, у которого еще не было невесты, одна из участниц кружка надавала глубокий траур, и приходила на похороны, как невеста.
Родные удивлялись очень, знакомые меньше, но и те и другие верили, что около свежей могилы есть красивая и печальная тайна.
В кружке участвовала и Нина Алексеевна Бессонова, молодая скучающая почему-то девушка, не очень красивая, но достаточно миловидная. В неё то и влюблялись даже, – что же и делать подрастающим гимназистам! – а ей все скучно было.
И вот, после одной из подруг, наступила и для Нины очередь проводить в могилу неведомого жениха.
– Следующий – ваш, – сказали ей.
Завидовали те, на кого еще не падал жребий. С сочувствующей печалью смотрели на Нину те подруги, которые уже исполнили свое печальное и красивое назначение.
В этот день Нина вернулась домой, странно взволнованная.
И потянулись для неё длинные и томные дни бездейственно-тоскующей печали.
Тягостные предчувствия томили ее, и на каждом шагу подстерегали приметы, вещающие утрату, слезы, гибель близкого сердцу.
Как тягостно знать, что исполнятся неведомые сроки, и умрет некто, еще незнакомый, но уже милый и дорогой! И с ним погибнет возможность счастья.
И кто он будет? И почему суждено ему не встретиться с нею ближе гробового предела? Быть может, спасла бы, уберегла бы, вымолила бы от жестокой судьбы часы и дни сладкого забвения печалей.
Не знаю, кто он будет, но как его жалко! Какая тоска.
Такой молодой, – и неумолимая уже следит за ним, подстерегает, – и нанесет ужасный удар, от которого ничем не спасти, никак не уберечь!
Иногда Нина почти завидовала тем своим подругам по этому кружку, которые уже успели совершить сладостно-печальный обряд, и теперь только донашивали свой легкий, красивый траур. Траур, так идущий к их милым лицам, что прохожие на улицах останавливались посмотреть.
Нельзя было знать заранее, скоро ли случится это событие. Надо быть готовой идти по первому зову, не опоздать. Поэтому Нина заказала для себя весь траурный наряд. Потихоньку от родных. Хотя и досадно было, что приходилось от них прятаться и таиться. О деньгах за траурное платье Нине заботиться не надо было: это был расход, падавший на средства кружка. Кружок имел довольно стройную организацию; собирались в его кассу ежемесячные членские взносы; были, как бывают и в других обществах, и разные случайные доходы.
Но хоть и не надо было заботиться о том, чтобы сразу достать много денег на траур, хоть и можно было сшитое уже и купленное прятать где-нибудь дома, а все же придется когда-нибудь траур надеть. И, конечно, лучше было бы сказать это заблаговременно. Но Нина почему-то стеснялась говорить об этом со своею матерью.
Да и как сказать! Надо объяснить, что и почему, а правила кружка не позволяли говорить о его целях и делах никому, кто не входил в его состав. Пришлось бы придумывать и лгать, и это было противно для Нины. И она откладывала со дня на день, а потом решила предоставить все случаю.
Как-нибудь обойдется, – думала она.
Платье принесли, – Нина выбрала час, когда матери не было дома, – и спрятала его в своей комнате.
По вечерам она раскладывала на постели и на стульях траурные наряды. В комнате её все было бело и розово, прозрачные колыхались легкие занавесочки на окнах, нежно и ласково пахли полевые цветы в красивых вазах, и за окном над далеким, стально голубеющим морем полыхал девичьим румянцем догорающий закат. И от этого всего девственно-чистого и светлого черные одежды казались особенно страшными, и пугали сердце, и быстрые исторгали из тоскующих глаз потоки слез.
Глядела на черный цвет, и плакала. Плакала долго.
Иногда примеряла траур, и смотрелась в зеркало. Черный цвет, и скромный покрой платья, и строгий фасон шляпы, – все это было ей так к лицу, – и от этого еще печальнее становилось на сердце, и еще неудержимее хотелось плакать.
И по утрам, просыпаясь, открывала глаза с тайным страхом, – не пришло ли уже оно, жданное горе. Солнце было уже высоко, сад пламенел, залитый расплавленным великолепием драконовой лютой злости, и сквозь легкие, розоватые, сквозные пленки нарядных занавесок метался в глаза неистовый день. И навстречу дню и буйству стремительной жизни бросала Нина злое слово, яд тоскующего предчувствия:
– А он, мой милый, скоро умрет!
И выходила в столовую смутная, туманная, смятением милого лица странно противоречила легкому, светлому наряду дачной барышни.
Мать смотрела на нее с недоумением, и спрашивала:
– Да что ты скучаешь, Ниночка? О чем волнуешься? Что с тобою?
Нина отмалчивалась, загадочно и печально улыбаясь, и садилась на свое место за столом, тихая, кроткая, красивая, к лицу одетая, к лицу причесанная, и совсем похожая на героиню романа, завязка которого не обещает счастливого конца.
И мать не могла добиться правды, что с Ниною.
Но вот однажды, в минуту внезапной откровенности, разнеженная печалью и завороженною тишиною северной белой ночи, взволнованная красивыми взлетами недалеких фейерверков на чьих-то незнакомых именинах прямо против веранды их дачи, где сидели они тогда вдвоем после вечернего чая, – Нина доверчиво прижалась к матери, вдруг заплакала, и сказала очень тихо, нежная, сумеречно-белая, на темно-сером платье матери выделяясь успокоенно-красивым пятном:
– Так тяжело на сердце! У меня предчувствие, что что-то будет… что-то страшное… горе какое-то.
Мать обеспокоилась. Обняла Нину. Приговаривала ласково, как малого ребенка утешала:
– Что ты, Ниночка, Бог с тобою, чему быть? Что будет? Ты, дитя мое, в предчувствия не верь, ты же не старушка. Да и кто в наши дни верит в это?
Нина вытерла слезы, притворно спокойным голосом сказала, притворно улыбаясь:
– Правда, мама, я и сама знаю, что это очень глупо, а только все мне кажется, что ему грозит несчастье.
– Кому, Нина? – спросила мать.
Слегка отодвинулась, – взглянуть на дочь, щуря серые, немного близорукие глаза. Нина говорила, и чуть не плакала: