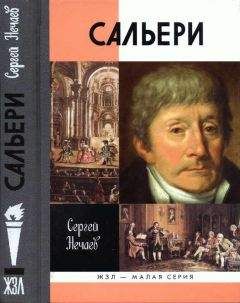Я знал, что это такое. Я уже своими глазами видел, как оскопляют весной поросят, чтобы из них выросли жирные и покладистые боровы, но не вонючие и драчливые хряки. Я знал, что сделали перед казнью с этими мальчиками. И еще я видел случки и, как осенью потрошат скот, перед тем как подать мясо к столу. И я своим детским умом уже понимал, что перед казнью сделали с бабами и девочками, но не мог взять в толк...
Если уже вскрыли живот и выпустили кишки - почему их не удалили и не промыли? И если уж курляндцы столь людоеды, что вырезают женщинам вымя, почему они не стали есть всего остального?
А еще я не понимал -- зачем вырезать, да выдавливать людям глаза? Ну если уж вы -- людоеды, глаза-то при чем? И я смотрел на казненных, а мои охранники стояли рядом и не решались ни прогнать меня, ни снять убитых, ибо я запретил им.
Тут прибежал наш возница, а вслед за ним прискакала и взмыленная, бледная, как смерть, матушка. Она соскочила с коня, крепко взяла меня за руку и сказала:
- "Тебе нельзя смотреть таких вещей. Пойдем, я уложу тебя спать. Тебе надо хорошенько выспаться".
А я стал упираться и кричать:
- "Я не могу! Я должен понять, зачем?! Оставь меня! Они играли в войну, да?! А я могу так же играть с их детишками?! Могу, или нет?!"
Помню, как у приехавших с матушкой людей исказились лица, а матушка обняла меня, резко повернула к трупам повешенных и чуть ли не ткнула носом в каждый из них, приговаривая:
- "Это и есть - Война! Они не играли. Они убивали твоих друзей и подружек ни зачем и ни за что! Медленно убивали. И ты обязан запомнить это, чтобы когда вырастешь - так же убивать католиков. Медленно. Не спеша. Запомни это, чтобы потом отомстить!" - и она тыкала меня носом в покрытые застылой кровью коленки таких же крохотных клопов и клопиц, как и я, и во вспоротые животы, таких же баб, как и она сама, до тех пор, пока я не заорал благим матом и не лишился чувств.
С той поры я частенько стал играть со своим ножом, воображая, как я вспорю им брюхо ненавистным католикам. Для того, чтобы вырезать на их телах их кресты - курляндские. Католические. Польские. Славянские. Кресты главного славянского святого - Святого Георгия. И рядом со мной росли такие же малыши, которые тоже точили ножи и тоже мечтали о скорой мести...
Меня потом часто спрашивали, - почему именно Андрис и Петер? Как потом выяснилось, - в той кирхе были ребята и поздоровей Петера, и гораздо умней Андриса. Не знаю. Глянулись они мне с первой минуты и по сей день я не раскаиваюсь в моем Выборе. Наверно, это -- Судьба.
Другой, не менее важный вопрос -- как сие началось? Откуда возникла такая взаимная ненависть внутри латышей? Неужто в Религии есть нечто этакое, что ради того можно вспарывать животы соседям своим? Может быть я не прав, но вот, что мне кажется:
В незапамятные времена на земли племени ливов прибыли первые немецкие рыцари. Именно там и возникли первые ливонские города Дерпт и Пернау. В отличие от дальнейших событий, немцы не ссорились с ливами -- им нужны были верные стрелки-арбалетчики. Ливы же -- народ очень малый и живший одной лишь охотой тоже был рад пришельцам. Те привозили ливам много еды.
Потом немцам стало мало "малой Ливонии" и они захотели "большую Ливонию". У нас был мир и "разделенье Остзеи" со шведами, так что немцы устремились на юг. А большую часть их армий составляли те самые ливы -финского корня. История моего семейства звучит так: Тоомас Бенкендорф был сыном эстонки, женился на ливке, а невестка его была из латышек. Если задуматься -- за сим семейным преданием чудятся кровавые событья тех лет.
Эстонка, ливинка, латышка... А за всем этим стальная поступь Орденских армий, постепенно утюживших мою Родину с финского Севера на балтский Юг.
А навстречу нам маршировали поляки. И огромная Даугава стала природным барьером, разделившим германские и славянские армии. Да, по обеим сторонам Даугавы жили, конечно же -- латыши. Но в жилах северных латышей теперь текла и немецко-финская Кровь. Кровь истинных протестантов. А в жилах южных -Кровь поляков с литовцами. Кровь католическая.
Можно всячески восхвалять безвестных ливинок, даривших немецким возлюбленным первых ливонцев. Можно всячески жалеть несчастных южных латышек, коих якобы жестоко насиловали бессовестные поляки. Но -- если вглядеться в суть дела...
Боюсь, что в известные времена у латышек не было выбора. Они обязаны были оказаться в чьей-то постели. Те, кто пустили к себе барона, иль его арбалетчика -- дали начало лифляндцам и протестантам. Прочие переспали со шляхтичем и его литовским уланом, став прабабушками курляндских католиков.
Так что -- резня меж лифляндцами и курляндцами имеет на мой взгляд, не религиозные, но национальные и межкультурные корни...
Стоило кончиться Шведской войне, как части Вермахта стали возвращаться с севера - из Эстляндии, которую мы под шумок к тому времени практически оттягали из-под носа России. Теперь наши руки были полностью развязаны в отношении Курляндии.
В первый год стрельба на границе шла ни шатко, ни валко, но к осени 1790 года мы стали совершать сперва робкие, а с каждым днем все более и более дерзкие вылазки на вражеский берег. Кто-то, конечно, погиб, но прочие обрели нужный опыт. Курляндцы же столкнулись с нежданной проблемой - они физически не могли прикрыть огромную по протяженью границу меж нашими странами.
Хитрость же заключалась в том, что мы так и не смогли вернуть в арсеналы оружие, розданное в начале Войны латышам. К счастию, - оно обернулось не против нас, но -- ненавистных католиков. Теперь с нашей стороны дрались обычные мужики, а с их -- дорогие наемники. Своим же мужикам курляндские сволочи раздать оружие - побоялись.
К весне 1791 года ситуация на границе изменилась разительно: курляндские помещики бросили свои земли вдоль всей Даугавы и прятались в укрепленных городах и крупных селах, наши же мужики осмелели настолько, что рейды аж до самой Митавы почитались у них - плевым делом. Самым же обыденным развлечением стали регулярные "охоты" на католиков.
Ранним летним утром 1791 года нас - совершенных молокососов, после долгих месяцев муштры и обучению стрелять из мушкетов, вывезли, наконец, "нюхать пороху". Матушка в тот день как раз поехала по дальним хуторам осматривать хозяйство (она сама была бы против такой забавы), ну, а Карлис только спал и думал, как бы быстрее нас с Озолем приучить к "мужскому делу". А в семье Бенкендорфов единственным занятием достойным мужчины почиталось умение владеть шпагой и пистолетом, а также - практическое использование сих средств на католиках.
Стояли мы в постах внешнего оцепления отряда нашей милиции. Наше "оцепление" "совершенно случайно" оказалось развернуто в сторону нашего берега,- позади всех прочих. Да на "флангах" располагались ребята постарше, которые фактически и прикрывали подходы со стороны реки. Мы - малышня этого, конечно, не знали и относились к полученной "боевой задаче" со всей серьезностью и ответственностью.
Всю ночь перед походом мы точили ножи и надраивали кремневые ружья. Само собой, нам было запрещено раньше времени заряжать их и лишний раз баловаться с порохом, но - мальчишки есть мальчишки и ружья зарядились как бы сами собой задолго до выхода и здорово мешались на марше и переправе.
Прибавьте к этому колкую вонючую рубаху. Лифляндское ополчение испокон веку имело некое подобие военной формы, - грубые льняные рубахи из небеленого полотна, которые специально вываривались в густом травяном настое и от этого приобретали характерный буро-болотный цвет.
Единственным украшением к такому наряду полагались четыре белых прямоугольных клина, нашиваемых на плечо левого рукава так, чтобы со стороны это выглядело как буро-зеленый крест в белом канте. Все вместе это называлось "лютеранским крестом" и носилось как знак отличия от "католического" красного креста, вышиваемого на правом плече белой рубахи.
Но я отвлекся - в то холодное туманное утро я был всего лишь маленьким испуганным мальчонкой, сжимающим огромное тяжкое ружье и мечтающим о великих подвигах, которые я совершу этим утром. По молодости и неопытности я надел тогда льняную рубаху прямо на голое тело и теперь у меня все нестерпимо чесалось. Может ото льна, а может - и от моей сенной болезни. А еще от свежевыкрашенной рубахи несло какой-то гадостью, да так - что меня чуточку подташнивало. От нас эти дни несло, как из хлева.
Добавьте к этому холодный сырой туман, клубившийся от какого-то безымянного ручейка на этом берегу Даугавы. На нашей стороне мы знали местность, как свои пять пальцев, но здесь все казалось другим и очень страшным. Да и в сон клонило с непривычки, и ноги были уже стерты почти до крови с нее же. В общем, война оказалась совсем непохожа на веселую увлекательную игру, как это казалось из сытой, довольной Риги.
Сейчас я не могу вспомнить точно, как это именно произошло - то ли хрустнул сухой сучок, то ли пахнуло каким-то непривычным запахом - у меня всегда был необычайно чувствительный нос, но что-то заставило меня встрепенуться и обернуться чуть в сторону. (Через много лет я пришел к выводу, что среди пленных католиков наши мужики нарочно отобрали жертву, которую и выгнали на нашу детскую цепь.)