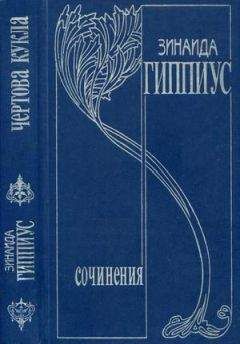– Убийцы… – хрипел Яков. – Бейте, бейте, с… дети.
– Юс, прочь! Это не наше дело!
– Бейте… бейте…
– Бей предателя! – мелькнули вдруг ясные слова в сплошном, зверином бормотаньи Кнорра.
Он глядел без мысли, сидел на полу, качался. Безумно облизывал чем-то запачканные пальцы. Чем? Вином пролитым? Не вином?
Михаилу удалось оторвать руку Юса.
– Прочь, я тебе говорю!
Яков с омертвевшим лицом стоял, опершись о стену.
– Юс, ты не смеешь, я тебе приказываю его оставить!
– Чего оставить! Как это оставить?
– Скрути ему руки назад. Слышишь? Юс, я не хочу, я не позволю.
Юс, тяжело дыша, повиновался.
– Крути, крути крепче… Вот ремень. Больше ничего нельзя, нельзя, довольно! Пусть о нем другие позаботятся, не мы. Не марайся теперь об этого… Нельзя. Ну, скорее! Пора идти. Вместе уйдем.
– Да вы что это? – вдруг плаксиво застонал Яков. – На смерть меня тут бросаете? Голубчики…
– Смерть, смерть предателю! – опять явственно и монотонно выкрикнул Кнорр, лижа безумно мокрые пальцы.
– Пожалуй, опамятуется этот к утру, развяжет… Эх! – бормотал Юс, туго крутя ремни. – Чем он, дьявол, так опоил его?
Михаил с фонарем в руке наклонился к телу Юрия.
Как побледневшее лицо просто. Мертвое, – оно точно и не было никогда живым. Мертвая красота. Глаза полузакрыты. Михаил смотрит, смотрит – и в мертвых чертах боится узнать черты другие, милые, близкие, навеки ему дорогие… Брат! Вот оно, непоправимое!
Непоправимое? Или только незабвенное?
– Готово! Идем, что ли?
Подойдя, остановился и Юс около тела. Посмотрел.
– Экий… случай какой несчастный…
И снял шапку.
Михаил поднялся. Переступил через длинные, темные лужи на полу, – что это? вино пролитое? или не вино? – и оба они с Юсом пошли, не оглядываясь, вон.
Красноватый луч света прыгнул на стену, соскочил, побежал вперед. И сник совсем.
В темноте остались трое: мертвый, безумный и связанный.
Глава тридцать третья
Черепки
Тихий март.
Даже не март еще, – конец февраля, но воздух мартовский, светы мартовские, небо мартовское, да и земля: кое-где лишь по равнине, у низких холмов, белеют пятна снега. Зима была несуровая, и рано зажглись небеса обещанием весны.
По равнине размашисто круглится железнодорожный путь. Далеко-далеко сверкают рельсы, тонут в редких сосновых перелесочках. Вот сбоку тоже небольшая кучка таких корявых сосенок. Около нее, без ограды, – серая бревенчатая церковь. Просто сруб, и бревна потемневшие тонки, и стоит сруб высоко, на четырех подставах, внизу пустота. Странная церковь, – ни дать ни взять сказочная избушка на курьих ножках.
В этой серой церкви в это радостное утро отпевают Машкиного ребеночка.
Маша стоит у маленького дощатого гроба, прислушивается к неизвестным и невнятным возгласам торопливого попа в короткой, обшмыганной рясе. Дьячок частит-частит – и опять поп. Не плачет Маша, только вздыхает да утирает лицо платком. Наплакалась вволю вчера с вечера, как приехала, да нынче, обряжая в гробик младенца.
Сторожиха-кормилка говорит – в два дня свернуло. Уж она к доктору его, уж она и то и се… Сама очень жалеет.
Стоит теперь тут же, около Машки, в ковровом платке, и девочку свою взяла, Машка на нее не сетует; что ж, видно уж судьба.
Егорушка желтенький, ресницы склеились, и все-таки хорошенький. Маленький-маленький, носик тонкий, из-под чепчика на лоб падает вьющаяся светлая прядь.
«Мальчик-то какой… Кудрявенький… Илюшечка…» – думает Маша тупо теми же словами, как всегда о нем думала. Когда крестили, все хотела сказать батюшке, чтоб Ильей назвал, а батюшка дал имя Георгия. Вышел Егорушка, но для Маши он в мыслях – Илюша.
Читает нараспев священник, частит дьячок, сторожиха сморкается, а Машкины мысли все ползают около ее «мальчика кудрявенького». Вот закопают его сейчас, и не будет… Ничего не будет, как не было ничего.
Родился он после нового года. Машка уж не на старом месте жила: там – съела Степанида. Новые господа попались ничего. Барыня Машку заметила, расспросила мельком, и говорит: ну, мы теперь уезжаем, тебя не гнать же, оставайся при квартире с кухаркой, а приедем – ты уж тут справишься.
И уехали. Машка стала жить. О воспитательном справлялась. Жить было ничего. На дворе только страмили, а то ничего, и кухарка женщина добрая, самой доводилось.
За последнее время, перед родами, Машка совсем об Илье не стала вспоминать: сгинул – и сгинул; сквозь землю точно провалился; точно он ей во сне привиделся; одна смутная память о нем, какой он. По осени, когда она еще на старом месте жила, – еще скучала, хоть не признавалась. По осени вышел раз такой случай.
Шла Машка в сумерки по Загородному с Анютой из двадцать четвертого. И видит – стоят у самой панели санки (только первый снег выпал), а в санках – Илья.
Он. Серая мерлушковая шапка на лоб надвинута, его глаза веселые.
Машка и себя не помнит, кинулась к саням.
– Илюша, Илюшенька!
Он глядит на нее, молчит, а Машку Анюта за платье давай дергать.
– Какой тебе Илюша? Чего ты? Разве не видишь, это барышня!
Совсем у Машки в глазах помутилось. Вот так Илюша. Дворники у ворот смеются. Заревела Машка от стыда и от страху.
А барышня к ней из санок наклоняется, расспрашивает, ничего понять не может. Тут бы им уйти, да Машка вцепилась в барышню и, плача, толкует про Илюшу. Кучер дворников кликнул: не пьяная ли? Но барышня вынула из кармана книжечку, написала, оторвала листок и дает Машке:
– Вот, милая, вы по этому адресу придите ко мне, там и расскажете, на какого я Илюшу похожа. Все мне тогда расскажете. Да не плачьте.
Вышла из магазина дама, села к барышне в санки, – укатили.
Адрес у Машки остался. Но обдумалась Машка. И заробела. Чего к чужой барышне идти? Какой там Илюша? Помстилось ей в сумерках. Так и не пошла тогда.
Пока не родила – думала про воспитательный, как все думают: куда же еще? А подали ей тоненького, беленького, кудрявенького, взял он грудь, поглядел темными глазами. – Машка обомлела. Как она такого мальчика хорошенького, кудрявенького – в воспитательный?
Взяла да и привезла на квартиру. Лукерья-кухарка разахалась.
– Ты, девка, ополоумела. Разве мы смеем? Господа приедут, на улицу, что ли, с ним пойдешь?
– Да мальчик-то, гляди, какой хорошенький, Лукерьюш-ка! Лучше же его, коли так, на вольное воспитание отдать. Илюшечка мой!
– Разве что, – соглашается Лукерья. – Есть у меня женщина. По балтийской дороге сторожева жена. Берет.
Две недели кормила Маша младенчика. Приехали господа. Удивились. Барыня похвалила ребенка, узнала, что Георгий – Юрочкой назвала, а потом говорит:
– Ну, Маша, я тебя вполне понимаю, однако натешилась, две недели кормила, пора и честь знать. К Лукерьиной знакомой отдаешь? Завтра же и вези.
Так и свезла Маша Егорушку к сторожихе. Барыня добрая, на первый месяц деньги дала, а там будь что будет. Христом-Богом заклинала Машка сторожиху беречь кудрявенького, рожок мыть, черной соски не давать. Пососал напоследях в сторожке материнскую грудь Егорушка, и Маша уехала.
Тут уж она затосковала. И о ком тоска – не понять. О Егорушке ли, об Илюшеньке ли… Места не найти. Вспомнилась та барышня. Хоть расскажу ей. Взяла да и пошла искать барышню.
Дом богатый. Не опомнилась Машка, а уж ее адресок швейцар на подъезде читает.
– Барышню видеть невозможно, а ее сиятельство нынче просительниц не принимают.
– Як барышне… – робеет Машка. – Оне мне сами вот написали.
– Когда это написали? Русским языком говорят – невозможно их видеть. За границу они уехали, уж месяца три.
– Уехали? – шепчет Машка. – Нездешняя, значит, барышня-то?
Швейцар рассердился.
– Да что ты, голубушка? Чего тебе надо? Сама не знаешь, кого спрашиваешь. Коли написано Юлитта Николаевна, так это будет внучка ее сиятельства, а ты – нездешняя!
– Илья тут у вас не служил ли? – совсем бессмысленно спрашивает Машка и сама чувствует, что никакого ответа не получит, что надо поскорее уйти, пока швейцар не толкнул ее на панель.
Ушла. И чего ходила?
Сторожиха редко письма присылает. Стала Машка привыкать, забывать немножко. Вдруг письмо: «Приезжайте, мать, Егорушка плох, не помер бы». В тот же вечер приехала Маша в сторожку, а он уж давно кончился, хоронить ждут.
«Вот и похороним», – думает она тупо, слушает непонятные слова и глядит на огонек тоненькой свечки. В солнечном луче, что косо и дымно тянется из окна церкви, огонек – словно прозрачно-желтая мушка вьется над воском. Желтее огня и воска Егорушка в гробу. А волоски золотятся, как живые.
«Может, несчастненький был бы…» – хочет утешить себя Машка, вспомнила сторожихины слова. Но не утешают они, не верится им. Счастливый. В сорочке ведь родился. И вон, кудрявчик. Кудрявые – счастливые. Как же так – помер?